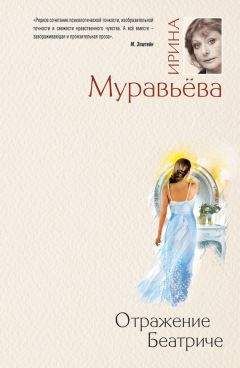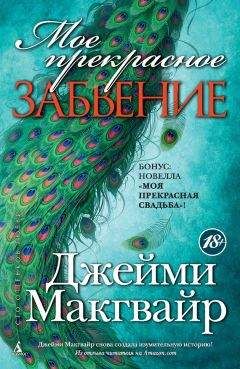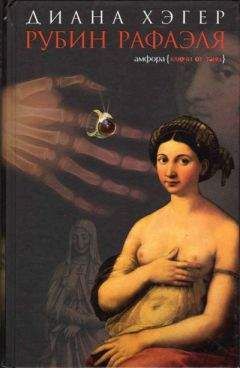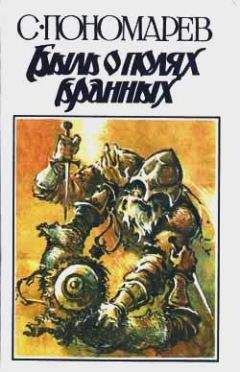В этот день дул сирокко[41] и воздух был полон влажных испарений. Стены были мокры от сырости. Беатриче смотрела на это более обыкновенного мрачное здание и, узнав, что это тюрьма Корте-Савелла, взяла за руку свою невестку и проговорила;
– Не правда ли, она точно плачет?
– Кто?
– Эта тюрьма.
– Конечно, много проливается слез в ней; и если б избыток их проник сквозь стены, я не удивилась бы этому.
– А эта трава в трещинах! Это точно молитвы заключенных, которые с трудом пробиваются сквозь стены?…
– Да. И так же как трава эта лепится по стенам, обдуваемая ветром и палимая солнцем, так молитвы заключенных обращаются к прохожим, чтоб напомнить о тех, которые страдают в этих стенах, и вызвать к ним сожаление.
– Луиза! А зачем эти мешочки спущенные на веревках?
Проходивший в эту минуту римский плебей, с размашистыми движениями и всегда готовый на острое словцо, услышав вопрос молодой девушки, ответил мимоходом:
– А это сети, расставленные узниками, чтобы ловить милостыню у прохожих; но в теперешние времена милостыня не ловится ни на лету, ни на ходу…
Другой плебей прибавил:
– Ты не то говоришь. Эти мешки, вечно пустые, изображают благодеяния попов, которыми они, как грудью без молока, кормят народ.
Луиза и Беатриче высыпали в эти мешки все деньги, какие у них были, удостоверившись сначала, что их никто не видит, и пошли дальше.
– Не деньги, – заметила Беатриче, – но сознание, что о них думают и помогают, как могут, должно быть великим утешением для этих несчастных.
– Да, – ответила Луиза, я воображаю, каким утешением должно отозваться участие в сердцах этих бедных, заживо похороненных людей… но я не желала бы испытать этого утешения.
– Не дай Боже, – вздрогнув, прошептала Беатриче.
Ведя такие грустные разговоры, они дошли до дому. Дон Джакомо с семейством поселился во дворце Ченчи, и они жили там все вместе, одни спокойные, другие в вечном страхе, а Беатриче с отчаянием в сердце, отчаянием, которое она всячески старалась скрывать, и с предчувствием неминуемого несчастья.
Обыкновенно по вечерам во дворце Ченчи собирались многочисленные друзья или родные; но в этот вечер не пришел никто. Собравшаяся вместе семья старалась поддерживать живой разговор; но вопрос или предложение часто оставались без ответа, и разговор не клеился. Все они чувствовали усталость вместо удовольствия; каждый из них желал бы остаться наедине с свояки мыслями; но едва воцарялось молчание, одиночество тотчас начинало пугать их. Из других комнат слышались шумные, беспечные игры детей и заставляли вздрагивать, как взрыв смеха во время похорон… Семья несвязным разговором старалась заглушить грустные мысли.
– Однако я замечаю, – говорила донна Луиза, – что нами овладевает мрачное настроение. Давайте читать Орланда[42]; может быть эти чудные фантазии развлекут наше воображение.
– Хорошо, – сказали в один голос Беатриче и Джакомо.
Донна Луиза взяла книгу и готова была начать чтение. Но в эту минуту у двери показался монсиньор Гвидо Гверро.
– Добро пожаловать, наш милый Гвидо, – сказал Джакомо, протягивая ему руки.
В семействе Ченчи на Гвидо смотрели, как на родного, я считали его женихом Беатриче. Известие это переходило из уст в уста между римской молодежью, которая завидовала его счастью.
Гвидо весело подошел к Беатриче и хотел поцеловать ей руку. Но она вместо того, чтоб протянуть ему ее, встала с видом решимости и сделала ему знак, чтоб он последовал за ней. Затем она повела его в амбразуру окна, где широкая штора закрыла их от всех.
Они остались там одну минуту, и когда вышли из амбразуры один за другим, на лицах их было видно, что вместо того, чтоб теснее связать узы любви, они разорвали их навсегда. Одно слово Беатриче разрубило как ударом топора цепь любви, за которую они оба держались: пожав руку убийцы отца, разве она не делалась уже через то сообщницей преступления! Она так думала и так сказала теперь своему возлюбленному.
Пораженный Гвидо воспользовался каким-то предлогом, чтобы скорее удалиться, всячески стараясь скрыть свое горе. Донна Лунза заметила смущение молодого человека и, приписывая его одной из тех минутных ссор, которые только усиливают любовь, шутя заметила:
– Беатриче! Беатриче! берегись с такой легкостью отбрасывать червонного короля; помни, что от одной, необдуманно брошенной карты, иногда проигрывают партию.
Как только Гвидо завернул за угол, он встретил своего верного слугу, который шел впопыхах к нему навстречу.
– Монсиньор, – сказал он поравнявшись с ним: – преосвященнейший кардинал Маффео прислал губернаторского курьера с приказанием отыскать вас, где бы вы ни были, и вручить вам эти шпоры.
– Шпоры! и больше он ничего не велел сказать?
– Ничего; он сказал только, что кардинал, вернувшись из деревни, застал у себя во дворце монсиньора Таверна, с которым он долго оставался наедине, запершись в кабинете; потом он вышел, дал курьеру шпоры и велел скорей отвезти их вашей милости. После того он опять заперся в кабинет с монсиньором.
Гвидо призадумался; и, немного погодя, точно озаренный какою-то мыслию, воскликнул:
– Понимаю!
В доме Ченчи, после ухода Гвидо, все оставались еще несколько времени вместе, но никто не произнес ни слова. Детей отвели спать, и с их отсутствием воцарилось глубокое молчание, прерываемое только шелестом занавесей, едва колеблемых легким ветром. Всем хотелось разойтись, и ни у кого не доставало духу уйти первому; вдруг послышался глухой шум, который все приближался; наконец раздались шаги целой толпы людей и бряцанье оружия.
Дон Джакомо встал и с удивлением и со страхом направился к дверям, чтобы узнать, что это значило? Но едва успел он сделать несколько шагов, как двери с шумом открылись, и толпа сбирров наводнила не только комнату, в которой находилось семейство Ченчи, но и весь дворец. Некоторые остановились на пороге, с обнаженными шпагами, преграждая выход из комнат.
– Вы арестованы по приказанию монсиньора Таверна, – крикнул, подпершись руками в бока, маленький сгорбленный человечек, имевший в этом положении подобие крючка.
– За что? – спросил дон Джакомо голосом, который он тщетно старался сделать спокойным.
– Вы узнаете это в свое время и в своем месте, на допросе. А теперь с вашего позволения…
Последние слова были впрочем сказаны в насмешку, потому что он еще не кончил фразы, как уже обшарил Джакомо руками с головы до ног. Удостоверившись таким образом, что на нем не было ничего, ни даже ладонки, он спросил, как бы издеваясь над ним: