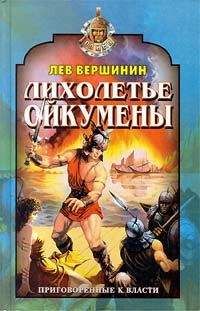Тем более царю молоссов.
Конечно, Главкию виднее. Он хоть и варвар, но, бесспорно, великий вождь. Раз уж он счел необходимым выписать для мальчишек педагога-эллина, да еще именно этого, а не иного, – значит, так тому и быть. Видимо, Аэроп просто перестал что-то понимать в жизни.
Но о чем это спрашивает Пирр?
– …или Эпаминонд?
– О чем ты, господин?
– Я спросил, Аэроп: кто, на твой взгляд, более велик – Александр или Эпаминонд?
Аэроп на миг задумался.
– Мой царь и побратим Александр, павший в Италии, – величайший из царей, малыш! Что же до Эпаминонда… Я знавал трех людей с таким именем. Двое ничем не отличались от остальных, а третий был лучшим коновалом Молоссии. Но он давно умер…
Пирр весело смеется. И это почему-то обидно.
– Ах, Аэроп! Эпаминонд – величайший из воителей Эллады, а вовсе не коновал! Это знают все. Он был первым, кто сумел победить спартанцев. И Александр ведь тоже не один. Я говорю не о дяде, а о теткином сыне, что победил персов и покорил Ойкумену…
Всеблагие боги! Чем забита голова мальчика!
Аэроп не из вспыльчивых. Но сейчас даже ему нелегко сдерживаться.
– Не было и не будет в Ойкумене воителя славнее моего павшего побратима, а твоего родного дяди Александра Молосса, запомни это накрепко! И мальчишка, сын царевны Мирто, недостоин был даже завязывать ему эндромиды! А Эпаминонд? Не так уж, видно, он велик, если я о нем не слыхал! Чему только учит вас этот глупый грек?..
– Киней не глупый! – обиженно выкрикивает в спину Аэропу Леоннат. А затем звучит напряженный голос Пирра:
– А ведь ты не любишь Кинея, Аэроп! За что?
Тонкий мальчишеский голосок, еще даже не начавший ломаться. И все же – неожиданно взрослый. Хлесткий и до боли знакомый…
Нет, Аэроп не оглянулся. Но вздрогнул. Ибо почудилось на краткий миг, что там, позади, на полкорпуса отставая, рысит вслед за ним на буланом незабвенный, давно падший и оплаканный царь Эакид.
Или? Ведь Эакид не умел так, наотмашь, бить простыми словами. Такое удавалось лишь одному из всех, с кем сводила Аэропа долгая и богатая на встречи жизнь.
Неужели?
И великан обернулся, обернулся, веря и не веря, вопреки собственному желанию. И, как и следовало ожидать, убедился лишь в том, что слух обманул его.
Не было, да и не могло быть там, за спиною, дорогого побратима, давно упокоившегося в теплой италийской земле. А были безмолвные и бесстрастные иллирийцы, нахохлившийся Леоннат и Пирр, гневно насупивший тонкие, золотистые, высоко изогнутые брови.
– Люби Кинея, Аэроп! Я так хочу!
Что это? На детском лице – новый, неузнаваемый взгляд, совсем не ребячий. Не гневный, не возмущенный, просто незнакомый доселе. Да, этот холодный, пугающий прищур когда-нибудь заставит многих недругов пасть на колени и униженно скулить, ибо в нем – тяжкая, неведомо откуда появившаяся, давящая воля, спокойная надменность и непреклонная уверенность в своем неотъемлемом праве повелевать…
Взгляд базилевса.
Сына и внука царей.
Потомка Ахилла-мирмидонянина, схватившегося под крепкостенной Троей с самим Агамемноном, владыкой златообильных Микен, города Львиных ворот.
Ни отшутиться, ни тем более прикрикнуть, как бывало, Аэроп не посмел. С теми, кто умеет глядеть так, нельзя спорить. Следует лишь промолчать и придержать повод, пропуская мальчишку вперед, во главу кавалькады.
– Люби Кинея, Аэроп!
– Повинуюсь, царь-отец!
Крепко стиснув коленями конские бока, седогривый великан склонил голову, церемонно прижав ладонь к сердцу. Как делал это в Италии, принимая приказы незабвенного царя-побратима.
Скодра. Середина осени того же года
«От Кинея-афинянина Гиерониму из Кадрии – привет!
Виновен и не смею отрицать вины, любезный друг, поскольку, три твоих послания получив, с ответом позволил себе непростительно помедлить. В оправдание себе скажу, однако, что из дикой глуши, где нынче волею Олимпийцев я обретаюсь, верная оказия чрезвычайно редка, довериться же случайному путнику, согласись, было бы неосмотрительно. Впрочем, как верно сказано у Аполлония Ликийского, «нам не дано узнать, куда ведет тропа, и худший путь подчас отнюдь не худший». Отчего, пользуясь счастливым стечением обстоятельств, поручаю письмо это, положась на благосклонность богов, купцу, промышляющему закупками здешней соли для нужд Амбракии, в надежде, что царское слово, подкрепившее мою к сему почтенному торговцу просьбу, заставит сего мужа, хоть и преизрядного проныру, судя по внешности, передать свиток, не затеряв его в дороге, своим амбракийским компаньонам, чьи корабли ходят в Азию, для дальнейшей передачи из рук в руки. И, теша себя такой надеждой, попробую в этом письме хоть вкратце поведать наконец-то обо всем, что так интересует тебя, мой дорогой и, увы, увы, мне далекий друг. К тому же приютивший меня местный князек, или царь, как он сам предпочитает титуловаться, с раннего утра уехал охотиться на здешнюю живность, прихватив с собою и воспитанников моих, меня же, уважив недуг (не спеши тревожиться, обычная простуда), оставил отлеживаться под присмотром лекарей, хотя и не учившихся в святилищах Асклепия, но тем не менее на диво сведущих. Так что есть у меня нынче время ответить на твои вопросы, ясные, как всегда, не спеша и всеобъемлюще.
Ты пишешь, что весьма удивлен отказом моим от некогда твердого решения посвятить жизнь высокой философии и прочим наукам, обосновавшись в родных Афинах. Удивляет тебя в этой связи также и то, что блеску и величию мудрого и благочестивого, по твоему мнению, стратега Антигона и пышности его двора предпочел я тусклое уныние жилища варварского князька. Отвечу по порядку, стараясь не приукрашивать истину и ничего не скрывая.
Без всяких приключений добравшись до Аттики и расставшись с посольством (кстати, не сочти за труд передать почтенному Клеосфену, что я помню его заботу и не устаю поминать его в молитвах), нашел я родной свой город не таким, каким представлял, основываясь на воспоминаниях детства. Да, конечно, покинув Родину юным отроком, я мало что мог помнить. Однако увиденное заставило сердце восплакать. Город, нельзя не признать, красив и даже ухожен, а толпы бродяг, заполнявшие его некогда, рассеяны стараниями городской стражи. Многократно сократилась преступность, выбор товаров, как собственных, так и привозных, широк и разнообразен. Но… не знаю, как и выразить… Афины тусклы. Да, именно тусклы, лучше не скажешь! Представь себе: мелкие интересы, мелочная вражда, маленькие успехи и крохотные, ничтожные людишки, недостойные ни былой славы своего полиса, ни своих собственных предков. Многим из них ничего не говорят имена Фидия и Геродота, Перикла они и вовсе считают неким древним тираном, враждовавшим с демократами. Я знаю, ты сочтешь мои слова шуткой, но знай: это, увы, горькая правда.