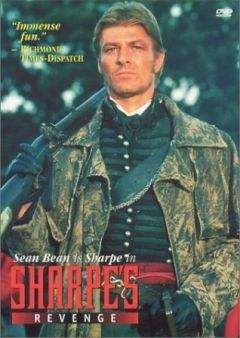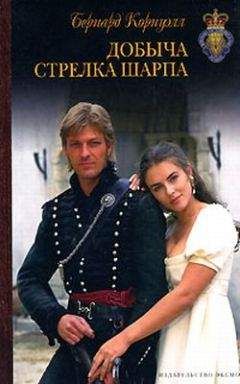Глава 17
Утро наступило как печальный стон. Он лежал, завернувшись в одеяло, возле кровати. Утренний свет был невыносим.
Он выругался и закрыл глаза.
Кто-то в замке бил кувалдой, и удары звоном отдавались у него в черепе.
— О, Боже!
Он опять открыл глаза. Бутылка вина лежала рядом с ним на полу, остаток вина у горлышка бутылки был темным от осадка. Он застонал снова.
Он откинул голову на кровать и смерил взглядом побеленный потолок. Молотили, казалось, прямо у него в комнате. Он не мог представить, что можно чувствовать себя так ужасно. Его глаза словно хотели вырваться из глазниц, во рту было грязнее, чем в камере, куда Дюко поместил его поначалу, в желудке сплошная кислота, а в кишках — вода.
— О, Боже!
Он услышал, как гремит засов на двери, но не обернулся.
— Bonjour, m’sieu! — Это был веселый молодой охранник.
Шарп медленно повернулся, чувствуя дикую боль в шее.
— Иисус…
Охранник рассмеялся.
— Нет, m’sieu. C’est moi. — Он поставил тазик на стол и имитировал бритье. — Oui, m’sieu?
— Oui.
Шарп встал. Он качался на слабых ногах и жалел, что не остался лежать на полу. Он остановил охранника.
— Минуту! Подожди! — Он зашел за ширму, ухватился за нее, и его стошнило.
— Иисус!
— M’sieu?
— Все в порядке! Нормально! Который час?
— M’sieu?
Шарп попытался вспомнить слово. Он разгибал пальцы на левой руке.
— L’heure est?
— Ах! C’est six figures, m’sieu.
— Сиз?
Солдат показал шесть пальцев, Шарп кивнул и плюнул в окно.
Молодой охранник, казалась, был счастлив, брея английского офицера. Он делал это умело, болтая непонятно и весело, покуда намыливал, брил, смывал пену и вытирал лицо полотенцем. Шарп же думал о том, что мог бы пнуть коленом мальчишку в живот, взять его мушкет, застрелить часового за дверью и оказаться во внутреннем дворе через десять секунд. Наверняка там бы нашлась хоть какая-то лошадь, и при удаче он мог бы оказаться далеко за воротами, прежде чем охрана поймет, что случилось.
С другой стороны он был не в настроении для утреннего мордобоя, и ему казалось слишком грубым нападать на веселого человека, который так умело брил его. Кроме того, ему нужен завтрак. Ему чертовски нужен завтрак.
Мальчик вытер лицо Шарпа насухо и улыбнулся.
— Bonjour!
Он выкатился за двери с тазиком и полотенцем, вернулся мгновение спустя за мушкетом, который забыл возле Шарпа. Он помахал на прощанье и закрыл дверь, не потрудившись запереть ее.
Удары кувалды все еще отозвались эхом в комнате. Он выглянул в окно и увидел, что там, где часовые отмеряли свои однообразные шаги вдоль крепостных валов, разрушают пушки, которые бросили вызов Веллингтону в прошлом году. Их цапфы — большие выступы, которые удерживают стволы на лафетах, — спиливали. Когда ножовки прорезали металл до половины, молотобоец изо всей силы бил кувалдой, чтобы сломать чистую бронзу. Удары убийственно гремели во внутреннем дворе. Удостоверившись, что пушки уже не поддаются ремонту, их заклепывали, а затем втаскивали на крепостные валы, чтобы сбросить на крутые скалы внизу. Шум был невыносим. Он застонал.
— О, Боже!
Шарп лежал на кровати. Он никогда не будет пить снова, никогда. С другой стороны, конечно, волосы собаки, которая укусила тебя, — единственное верное средство против бешенства. Половина британской армии пьянствует на привале и готова встретить новый день, только похмелившись остатками вчерашней выпивки. Он открыл один глаз и посмотрел уныло на нераспечатанную бутылку шампанского на столе.
Он взял бутылку, долго нахмурившись смотрел на нее, потом пожал плечами. Зажал бутылку между ног и выкрутил пробку левой рукой. Она вылетела с хлопком. Небольшое усилие, понадобившееся, чтобы вытащить пробку, показало, что он слаб как котенок. Шампанское пенилось на его штанах.
Он попробовал его. Оно смыло привкус рвоты во рту. Оно даже имело приятный вкус. Он выпил еще немного.
Он снова лег с бутылкой шампанского в левой руке, и вспомнил про честное слово. Предполагалось, что он подпишет его, и тогда его спасение будет устроено французами, которые не хотят мира с Испанией. Однако утром все это казалось куда сложнее. Он твердо знал, что, подписав бумагу а затем сбежав, он пожертвует своей честью.
Дверь снова открылась, и он лежал неподвижно, покуда завтрак, доставленный милостью генерала Вериньи, был расставлен на столе. Он знал, что там будет. Горячий шоколад, хлеб, масло и сыр.
— Mercy.
По крайней мере, подумал он, я немного выучил французский язык.
Час спустя, с завтраком и половиной бутылки шампанского в желудке, он понял, что чувствует себя гораздо лучше. День, пожалуй, может оказаться не так уж плох. Он посмотрел на бумагу. Он не может подписать ее, говорил он себе, потому что это будет не достойно его. Он должен просто сбежать. Он должен прийти к Веллингтону с этими новостями, но не жертвуя своей честью. Капитан Д’Алембор говорил, что честь — просто слово, скрывающее грешную натуру людей, и маркиза смеялась над этим словом, но Шарп знал, что оно означает. Оно означает, что он никогда не сможет жить в мире с собой, если он подпишет бумагу и позволит Монбрану организовать его спасение. Честь — это совесть. Он убежал от стола, от искушавшей его бумаги с честным словом, и унес шампанское к зарешеченному окну.
С бутылкой в руке он глядел вниз, на кучи снарядов, которые слабо блестели после дождя, который шел ночью. Офицер проверял запальные шнуры. Это будет адский взрыв! Шарп задумался, он задавался вопросом, услышит ли он взрыв с Главной дороги.
Он слышал женские голоса. В этой армии было необыкновенно много женщин. Как выразился Вериньи вчера? Шарп нахмурился, затем улыбнулся. Эта армия — бродячий бордель.
Он отвернулся от окна и подошел к столу, где бумага с честным словом, залитая красным вином, все еще ждала его подписи. Он попытался понять смысл французских слов, но не смог. Однако в любом случае он знал, что тут сказало. Он обещал не бежать и ни в коем случае не помогать вооруженным силам Великобритании или ее союзникам против французской армии, пока он не будет или обменен или освобожден от обязательства.
Он сказал себе, что должен подписать это. Спасение невозможно. Он должен подписать это и отказаться принять предложение маркизы бежать. Он думал о путешествии в ее коляске с задернутыми занавесками, и вспоминал ее слова о том, что она любит его. Он смотрел на перо. Будет ли это позором: дать честное слов, а затем доставить новости о секретном договоре Веллингтону? Или его страна выше его чести? Элен сказала правду? Она хотела, чтобы он был с ней, когда война кончится, когда он выйдет в отставку? Она говорила о трех тысячах гиней. Он закрыл свои глаза, воображая три тысячи гиней. Можно всю жизнь прожить на три тысячи гиней…