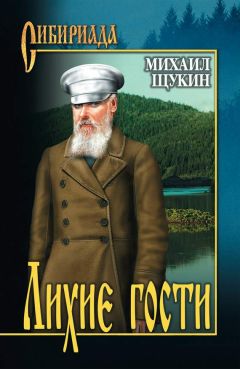Дальше Козелло-Зелинский принялся объяснять причину, по какой он не успевал к сроку, но мог бы не объяснять, причина была ясной: как же не купить штофик, имея на руках деньги…
Вдоволь наговорившись и почти усыпив уже Игната с Никитой, Козелло-Зелинский вдруг внезапно обмяк, тихонько привалился бочком на лавке и мирно засопел.
«Дома-то у меня, с доброй закуской, дольше продержался», — Артемий Семеныч снял с гвоздя свою шапку и подсунул ее под голову хозяина. Почему-то жаль было странного человечка, который сейчас сладко спал без всякой опаски и ни о чем не догадывался.
Дальше Артемий Семеныч действовал так, как задумал, а Егорка проворно суетился у него на подхвате.
Бумаги и чертеж на коже засунули в суму, всю поклажу снова навьючили на коней, и Никита с Игнатом отогнали их от избенки, потому что возле нее никакой ограды не было — видно все, как на махонькой ладошке хозяина. Укрыться сыновьям Артемий Семеныч велел в логу за деревней. Напоследок дал суровый наказ: огня не разводить, а дремать вполглаза, по очереди. Сам же с Егоркой, потушив свечи, остался в избенке. Устроился в переднем углу, прямо на старых половицах, ловчее уложил заряженное ружье и шепнул Егорке, чтобы тот не вздумал кряхтеть или ворочаться. Егорка осторожно кашлянул и послушно затих.
«Верно про судьбу говорят, — думал Артемий Семеныч, чутко вслушиваясь в ночную тишину, — ее и на коне не объедешь. Никогда не думал, что из-за обормота своей головой рисковать стану. Вот, судьба, подсуропила!»
И снова, разгоняя сон, от всего сердитого сердца костерил он мысленно Данилу Шайдурова черными словами, какие только приходили на ум.
Казалось, что долгий путь, во время которого спутались день и ночь, никогда не закончится. Голова наливалась тяжестью, и Данила все чаще впадал в забытье. Очнулся, когда сдернули с головы грубую, шершавую мешковину и открылось перед глазами яркое звездное небо. Млечный Путь мигал и искрился, уходя в запредельные выси. Неведомая звездочка сорвалась с синего небесного склона, прочертила крутую светящуюся дугу и канула бесследно, не долетев до иззубренной и темной макушки тайги. Чья-то рука выдернула изо рта волосяной кляп, и скулы, затекшие от долгой неподвижности, сами собой несколько раз дернулись, и зубы четко лязгнули.
— Как он там — дышит? — донесся хриплый, запыхавшийся голос.
— Зубами щелкает, как волчара! — отозвался другой голос, молодой и веселый.
— Вышибем зубы-то — не будет щелкать. Вали его в сани!
Данилу подняли с земли, перевалили в сани, на днище которых было набросано толстым слоем хрусткое, пахучее сено. Острые, сухие стебли кололи щеку, но Данила, лежавший на боку со связанными руками и ногами, даже не мог перевернуться — тело онемело, потеряло собственную силу, и он валялся, как тряпичная кукла.
Сани потряхивало на ухабах, справа и слева слышалось шумное дыхание усталых лошадей. Люди молчали.
В санях его везли недолго. Скоро тот же молодой и веселый голос известил:
— Принимайте гостинец! Доставили в целости! Куда его?
— Давай сразу к Цезарю!
Данилу сдернули с саней, поставили на ноги, развязали веревки, и он мешком обрушился на снег — ноги не держали. Тогда ему распутали веревки на руках и милостиво разрешили:
— Сам обыгивайся, таскать не будем…
Он обыгался. Двинулся на шатких, подсекающихся ногах к крыльцу длинного приземистого строения, куда его повели, показывая дорогу тычками в спину. В узком, темном коридоре споткнулся, но его встряхнули за плечи крепкими руками, обругали незлобиво и, распахнув дверь, втолкнули в большую, сверкающую комнату, освещенную множеством свечей на высоких бронзовых подсвечниках. Данила даже зажмурился — так резануло по глазам ярким светом. А когда проморгался, увидел: свет потому был особенно ярким, что струился не только от свечей, но еще и от больших зеркал, которыми была завешана глухая, без окон, стена. Посреди комнаты стояло высокое резное кресло, а в нем восседал молодой, красивый мужик в легкой заячьей шубейке, накинутой на плечи; щурился, с интересом разглядывал Данилу. Под короткими черными усиками бродила легкая усмешка. С правой стороны резного кресла ютился горбатый лысый мужичок. Он облизывал языком толстые, прямо-таки конские губы и тоже щурился, глядя на Данилу.
Так и молчали все трое некоторое время, ощупывая друг друга взглядами. Первым заговорил тот, который сидел на кресле:
— Слушай меня, парень, и ни единого моего слова мимо своих ушей не пропускай. Спрашивать мне тебя не о чем — сам все знаю. По какой причине господин Луканин постоялый двор взялся строить, какой наказ вы от него получили… Цезаря решили поискать с Захаром Евграфовичем? Вот я, перед тобой. И теперь, парень, ты в полной моей власти. Захочу — зарежу. Захочу — на кол посажу. А захочу — помилую. Все от тебя зависит. Понимаешь, о чем говорю? Понимаешь или нет?
Данила нехотя кивнул. Чего уж тут непонятного…
— Во-о-т, — довольно протянул Цезарь, — по глазенкам твоим вижу, что парень ты смышленый. А чтобы еще смышленей стал, определи его, Бориска, до утра к нашему бедолаге. Да пару свечек зажгите, чтобы он хорошенько посмотрел. А завтра с утречка, на свежие головы, мы и потолкуем по душам.
Цезарь дернул плечами, скидывая с них заячью шубейку, упруго вскочил с кресла, и оказалось, что под шубейкой у него была малинового цвета рубаха, перехваченная тонким, наборным ремешком. От свечей и зеркальных отсветов она переливалась алыми сполохами. Ни дать ни взять, а первый щеголь, сокрушитель слабых девичьих сердец на деревенской вечерке. Вот прихлопнет сейчас ладонями по голенищам сверкающих сапог и пустится в пляс… Но Цезарь сунул руки в карманы брюк, подошел вплотную к Даниле и тихо, на ухо, прошептал:
— Ты уж там посмотри хорошенько, парень. Ничего не прогляди.
Данилу цепко ухватили под локти, вывели на улицу, протащили через широкий двор и впихнули в нутро низкой и тесной избушки. Данила огляделся в полутьме и невольно попятился назад, даже толкнулся спиной в двери, но двери уже были накрепко заперты снаружи и не колыхнулись.
А прямо перед глазами, на бревенчатой стене, тяжело обвиснув на вытянутых руках, безвольно уронив на грудь голову, был распят человек, раздетый донага. Толстые витые веревки обхватывали запястья и продеты были в железные скобы, намертво вколоченные в деревянную стену. Такими же веревками были схвачены щиколотки. Все тело человека вкривь и вкось покрывали кровяные набухшие рубцы. Из открытого хрипящего рта тянулась, словно длинная нить, густая слюна ржавого цвета.