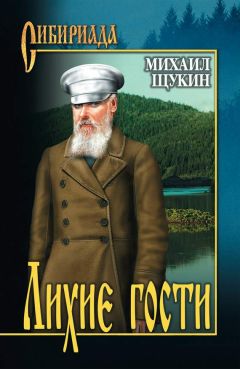— Я тоже узнал вас, Перегудов, и думаю, что улыбаетесь вы совершенно напрасно.
— Ошибаетесь, Захар Евграфович. Улыбаюсь я именно от радости. Искренне боялся, что вы не появитесь здесь, а эти варнаки осерчают и зарежут меня. Или просто пришибут — не знаю, что им приятней покажется. А вы меня не зарежете, не пришибете, я вам живой нужен, желательно в добром здравии и благодушном расположении духа. А иначе говорить ничего не буду…
— Ска-а-жешь, — Егорка выступил из-за спины Захара Евграфовича и тоже наклонился над Перегудовым, — как миленький скажешь. Щепки запалю под задницей — ты у меня такой разговорчивый станешь… Куда Данилу дели? Ну?! Говори?!
— Данилу? Какого Данилу? — Перегудов совершенно безбоязненно смотрел Захару Евграфовичу в глаза, и с губ у него не исчезала добродушная усмешка. — А, парня этого, который здесь распоряжался! Да-да. Увезли вашего Данилу, за Кедровый кряж. На то и щуки имеются, чтобы карась не дремал. А парень ваш задремал. Вот и заимел неприятность. Вы меня здесь о том о сем спрашиваете, а его там, за Кедровым, спрашивают — о том о сем. Такой расклад, — усмехается над нами судьба…
Артемий Семеныч все это время стоял, привалившись плечом к срубу, слушал витиеватый разговор, молчал и морщился, словно дерьма нанюхался. Но при последних словах Перегудова встрепенулся, отвалился от сруба, плюнул под ноги и вмешался:
— Я тебе так скажу, птица ты залетная. Свистну сейчас своих ребятишек, они тебе головенку оторвут и господину Луканину подарят. Вот он с ей и будет беседовать. Не допущу, чтобы дочь моя еще и соломенной вдовой осталась. Признавайся — как Данилу выручить? Или ребятишек свистну.
— Подожди, Артемий Семеныч, не горячись, — попытался остепенить его Захар Евграфович.
— А ты не указ мне, господин Луканин, — взъярился Артемий Семеныч, — я на службу к тебе не поступал! Своими командуй. Я этого варнака взял, я ему и решку наводить буду. Игнат! Никита!
Братья Клочихины мигом просунулись в широкий проем сруба, готовые выполнить любой отцовский приказ.
И неизвестно, чем бы завершилась горячая перепалка, если бы следом за Клочихиными не просунулась в проем еще и всклокоченная голова Козелло-Зелинского. Он помигал из-под очочков бесцветными глазками и заторопился, боясь опоздать:
— Я очень-очень извиняюсь, уважаемые, только не доводите до смертоубийства! Кажется, я знаю, чего нужно. На кожаной карте секрет один имеется, я в силу вредного своего любопытства взял да и разгадал его. Там проход указан через Кедровый кряж, а на том варианте, с которого я перерисовывал, данного прохода не обозначено. Что получается? Получается, что нам известен проход через Кедровый кряж, поэтому данного господина, моего заказчика, совсем не требуется лишать жизни.
Перегудов дернулся, заорал, словно под ним и впрямь зажгли щепу, попытался вскочить на ноги, но Егорка ловким тычком усадил его на место и для надежности припечатал носком сапога под вздых. Перегудов зазевал, беззвучно открывая рот, и едва-едва отдышался. А когда отдышался, насмешки во взгляде уже не было, да и улыбка исчезла. Совсем другой человек сидел на куче щепок — злой, загнанный в угол, готовый зубами рвать глотки, чтобы выскочить за пределы деревянного сруба. Без опаски относиться к такому человеку — равносильно, что свою голову на плаху укладывать. Все, кто стоял вокруг Перегудова, прекрасно это понимали. И общее понимание, словно ведро холодной воды на костер, потушило вспыхнувшую было ссору.
Даже Артемий Семеныч остыл, постучал носками валенок о нижний венец сруба, стряхивая с них мокрый снег, а те комочки, которые не отскочили, соскреб щепочкой и, выпрямившись, спокойно, уже без сердитой искры, взглянул на Луканина, будто спросил без слов: и чего мы дальше делать станем?
Ответ у Захара Евграфовича был наготове:
— Просьба к тебе, Артемий Семеныч, имеется. Прошу — не откажи.
И дальше, торопясь, опасаясь, чтобы Клочихин снова не зауросил, изложил эту просьбу: пусть бы Артемий Семеныч вместе с сыновьями и Егоркой приглядел за постройкой постоялого двора, пока не вернется Данила, а заодно приглядел бы и другое — не появятся ли в округе чужие люди. Сам же Захар Евграфович, прихватив Перегудова, Козелло-Зелинского и бумаги, в сей же час отправится в Белоярск, пойдет по властям и будет думать — как выручить Данилу. Дней через пять-шесть, самое большее — через неделю, он снова будет здесь, в Успенке.
Артемий Семеныч выслушал его, потеребил курчавую бородку, долго молчал и наконец глухо, будто тяжелое бревно на землю, уронил одно лишь слово:
— Ладно.
Тяжелая, кованая выдерга с раздвоенным концом валялась, ненужная теперь, в углу сарая, а до этого крепко ей пришлось поработать: толстая, в палец, железная решетка, которая закрывала единственное оконце, выдрана была вместе с длинными гвоздями и кусками дерева из своего гнезда, изогнута в иных местах и брошена в другой угол. В пустом проеме гулял свежий ветерок, на вырезе в толстом бревне поблескивали осколки битого стекла — с наружной стороны оконце раньше было застеклено.
Вот и все, что оставил после себя Перегудов, исчезнув ночью из сарая, куда его накануне заперли.
— Кто запирал? — не поворачивая головы, властно спросил Окороков.
— Я… я… ваше… ваше… сиятельство, — заикаясь, отозвался из-за его широкой спины Екимыч, — этим самым ключиком, и сейчас… все свидетели… им открыл…
И он вытягивал перед собой руки, в одной из которых зажат был ключ, а в другой — тяжелый амбарный замок.
Окороков шагнул, поднял с земли тяжелую выдергу, приставил ее к стене, затем поднял изуродованную решетку с болтающимися на ней гвоздями и определил ей место рядом с выдергой. Отшагнул назад, полюбовался и громко присвистнул:
— Ванькой звали!
Захар Евграфович зачем-то полез к выбитому оконцу, сам не понимая, что он хотел увидеть, но Окороков решительно остановил его, ухватив за рукав, и показал на двери.
Вышли из сарая на улицу.
Удалых, помощник пристава, опустив худенькие плечи, уныло дожидался приказаний от начальника, и взгляд его был преисполнен вселенской скорби. Он страдал поясницей, и всякое шевеление, всякая ходьба, а пуще всего наклоны выдавливали из его печальных глаз столь же печальные слезы. И в них, тех слезах, умещалось все: служба, надоевшая хуже горькой редьки, боли в пояснице, которые не отпускали даже во сне, и еще искреннее сожаление о своей невеселой судьбе — Удалых был невезучим человеком. Карьера его не сложилась, и теперь уже было ясно, что выше нынешней должности он никогда не поднимется; жена его, догадавшись об этом раньше мужа, в один прекрасный день сбежала из Белоярска, оставив на память благоверному любимого рыжего кота. Все плохо, а тут еще, как назло, одно происшествие за другим…