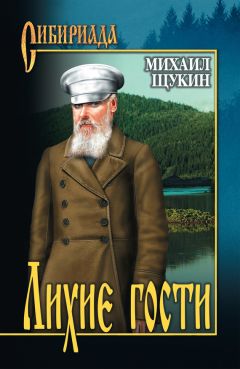Данила нехотя кивнул. Чего уж тут непонятного…
– Во-о-т, – довольно протянул Цезарь, – по глазенкам твоим вижу, что парень ты смышленый. А чтобы еще смышленей стал, определи его, Бориска, до утра к нашему бедолаге. Да пару свечек зажгите, чтобы он хорошенько посмотрел. А завтра с утречка, на свежие головы, мы и потолкуем по душам.
Цезарь дернул плечами, скидывая с них заячью шубейку, упруго вскочил с кресла, и оказалось, что под шубейкой у него была малинового цвета рубаха, перехваченная тонким, наборным ремешком. От свечей и зеркальных отсветов она переливалась алыми сполохами. Ни дать ни взять, а первый щеголь, сокрушитель слабых девичьих сердец на деревенской вечерке. Вот прихлопнет сейчас ладонями по голенищам сверкающих сапог и пустится в пляс… Но Цезарь сунул руки в карманы брюк, подошел вплотную к Даниле и тихо, на ухо, прошептал:
– Ты уж там посмотри хорошенько, парень. Ничего не прогляди.
Данилу цепко ухватили под локти, вывели на улицу, протащили через широкий двор и впихнули в нутро низкой и тесной избушки. Данила огляделся в полутьме и невольно попятился назад, даже толкнулся спиной в двери, но двери уже были накрепко заперты снаружи и не колыхнулись.
А прямо перед глазами, на бревенчатой стене, тяжело обвиснув на вытянутых руках, безвольно уронив на грудь голову, был распят человек, раздетый донага. Толстые витые веревки обхватывали запястья и продеты были в железные скобы, намертво вколоченные в деревянную стену. Такими же веревками были схвачены щиколотки. Все тело человека вкривь и вкось покрывали кровяные набухшие рубцы. Из открытого хрипящего рта тянулась, словно длинная нить, густая слюна ржавого цвета.
Гусиные пупырышки проскочили у Данилы по спине – будто от страшенного мороза.
Распятый на стене человек замычал, попытался сплюнуть, но густая слюна не оборвалась и продолжала висеть длинной нитью. С тем же протяжным мычанием человек через силу поднял голову, и с разбитого лица, словно из живого, разорванного мяса, глянули на Данилу почти безумные от боли глаза. В тусклом свете двух плошек с сальными свечами они лихорадочно блестели.
Если бы на месте Данилы оказался сейчас Егорка Костянкин, он, может быть, и признал бы в распятом человеке Никифора – одного из кержацких парней, а может быть, и не признал бы, потому как остался от крепкого, сильного тела только кусок кровящей плоти, в которой неведомым образом еще хрипела жизнь.
До самого утра простоял Данила, не присаживаясь даже на корточки, возле дверей, смотрел во все глаза на человека, висевшего перед ним на стене и все хотел спросить: кто ты такой? Но язык не подчинялся, и он не мог выдавить из себя даже одного слова. Утром загремел с наружной стороны дверной запор, Данилу вывели из избушки, и он с тоской взглянул на макушку ближайшей горы, облитую розовым светом поднимающегося солнца.
С легким стуком свалился Козелло-Зелинский с лавки, ошалело сел на полу и тонким, визгливым голосом известил:
Гневно его перервав, отвечал Ахиллес благородный:
«Робким, ничтожным меня справедливо бы все называли,
Если б во всем, что ни скажешь, тебе угождал я, безмолвный.
В это же самое время Артемий Семеныч различил звонкий хруст шагов возле дверей избенки. Перехватил ружье. Успел еще глянуть на Егорку – тот уже был наготове, стоял, вжимаясь в стену, сбоку дверного проема. Хозяина никто не позвал и не окликнул, дверь наотмашь распахнулась, и гость в длинной широкой шубе тяжело перевалился через порог, подал голос:
– Эй, друг сердечный, просыпайся!
Сердечный друг встал на карачки, начал выпрямлять спину и продолжал завывать:
Требуй того от других, напыщенный властительством, мне же
Ты не приказывай: слушать тебя не намерен я боле!»
– Ты чего, пьяный?! Или не проспался?
Ответ последовать не успел. Егорка точно в висок припечатал приклад ружья, и вошедший беззвучно свалился – даже не дернулся. Артемий Семеныч перепрыгнул через упавшего, выскочил в настежь распахнутые двери, настороженно озирнулся – больше возле избенки никого не было. Стояла лишь смирная лошадь, запряженная в легкие санки, покрашенная по бокам мохнатым инеем: видно, неближнюю дорогу одолела. Для полной уверенности Артемий Семеныч обежал вокруг избенки и еще раз огляделся – никого. Деревня при наступающем синем рассвете только-только просыпалась, обозначаясь прямыми столбиками дымов из труб.
– Ну и ладно, – пробормотал Артемий Семеныч, – теперь дай Бог ноги…
Не прошло и нескольких минут, а смирная лошадка уже послушно скакала в сторону лога, тянула разом потяжелевшие санки, в которых теперь сидел связанный молодой мужик, Егорка, Артемий Семеныч и ничего не понимающий Козелло-Зелинский, которого в последний момент решили прихватить с собой – от греха подальше. А там видно будет…
Игнат и Никита, строго выполняя отцовский наказ, дожидались в логу, замерзнув за ночь, как ледышки. Быстренько оседлали застоявшихся коней и тронулись на рысях по накатанной дороге – в Успенку. Крепко побаивался Артемий Семеныч оставаться здесь дольше: кто знает, не приедут ли следом за молодым мужиком и другие лихие гости… Поэтому и торопился ближе к своему дому – там надежней.
А дома их уже ждали. Бросив все дела, примчался Захар Евграфович, едва не запалив свою тройку в бешеной скачке. Вместе с ним, вершни, прискакали четверо его работников при ружьях. Остановился Луканин по старой памяти у Митрофановны и стал ждать возвращения Егорки. А что еще он мог предпринять? Да ничего… Только и оставалось – ждать. За время этого ожидания, показавшегося ему бесконечным, Захар Евграфович о многом успел передумать: каялся, что по его вине исчез Данила, грозился Цезарю, что все равно до него доберется и расплатится сполна, запоздало жалел, что не посвятил в свои планы исправника Окорокова, и тут же переиначивал: нет, не нужен исправник, сам кашу заваривал, сам и расхлебает…
Когда Егорка показался в воротах ограды, Захар Евграфович кинулся к нему, как к родному. А скоро уже скакал вместе с ним к Барсучьей гриве, где дожидался их Артемий Семеныч с сыновьями. Они так решили: в деревне появляться, пока светло, не следует, чтобы лишних разговоров и слухов не гуляло, лучше неспешно поговорить с молодым мужиком, которого стреножили в Емельяновке, послушать, что он скажет, а после уже думать – в какую сторону поворачивать оглобли.
Долетели до гривы одним махом. Зашли в сруб, и Захар Евграфович оставил там только Егорку и Артемия Семеныча – остальных выпроводил, чтобы не путались под ногами и не мешали. Связанный молодой мужик сидел в срубе на куче свежей щепы, был совершенно спокоен, из-под черной кудрявой бородки рдел яркий румянец. Что-то знакомое показалось Захару Евграфовичу во всем его облике, он подошел ближе, всматриваясь: где он мог его видеть? Мужик вскинул насмешливый взгляд, улыбнулся и вежливо поздоровался: