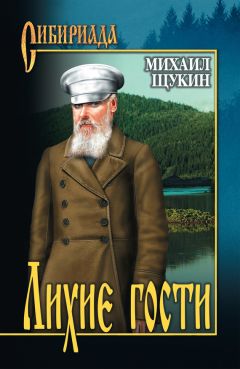Но скоро и свертки перестали попадаться. Снова потянулись чистые, нетронутые обочины.
К вечеру доехали до Емельяновки. Артемий Семеныч, не раздумывая, прямиком направил коня к избенке Козелло-Зелинского – надо было определяться на ночлег. А еще, думал Артемий Семеныч, пройдется он завтра по деревне, поговорит с мужиками. Если появлялись в Емельяновке или в округе неизвестные – должен кто-то их видеть. Или следы какие оставили…
Хозяин похильнувшейся избенки пребывал на месте, нежданных гостей встретил радостно. Всплескивал маленькими ручками, нетерпеливо перебирал ножками, словно собирался куда бежать, и все удивлялся:
– Я, знаешь ли, почтенный мой, начинаю верить в народные приметы! Стал настоящим деревенским жителем! С утра вот на этом колу села сорока и так зазывно трещала, так трещала, что я невольно подумал о гостях! А гости на пороге! Рад несказанно! Поверьте искреннему слову! Рад! А как закончилось дело с Луизой Дювалье? Доставили ее господину Луканину? Награду получили?
– Получил, – буркнул Артемий Семеныч, – едва унес. На ночевку нас пустишь?
– Сочту за честь дать вам ночлег и кров. Все кроме угощения. У меня, простите великодушно, на сегодняшний день не имеется даже хлеба.
– Своим обойдемся, – Артемий Семеныч благодушно махнул рукой, словно убирал с дороги Козелло-Зелинского, и быстро распорядился: – Никита, тащи сюда нашу поклажу. Игнат, растопляй печку, а я пока сяду передохну.
Он разделся, сел на шаткую лавку и вытянул ноги. Егорка, который никакого приказания не получил, примостился с ним рядом.
Скоро в избенке стало тепло от накалившейся печки, зашевелилась в переднем углу густая паутина, а первые сумерки, прокравшись в два низких окна, скрыли грязь и неприбранность. Оттаявший на плите большой хлебный каравай источал такой густой запах, словно его только что испекли. Козелло-Зелинский, принюхиваясь, пошевелил маленьким носиком, словно мышка, и с тайной надеждой спросил:
– А водочки, милейший, у вас не найдется?
– Да не теряли ее, чтоб находить. Нету нынче водочки, в прошлый раз всю скушали, – Артемий Семеныч усмехнулся и покачал головой.
– Жаль, бесконечно жаль, – вздохнул Козелло-Зелинский и принялся кривым, сточенным ножиком резать хлеб. Но вдруг положил хлеб и ножик на серую от грязи столешницу, крутнулся на малом пространстве перед столом, словно заячью петлю скинул, и выскользнул в двери, успев, уже с улицы, крикнуть: – Я быстренько, милейшие, сей момент вернусь обратно!
Вернулся действительно очень скоро. Из-за пазухи, как драгоценность, достал штофик светлого стекла, поцеловал его в донышко и осторожно поставил на столешницу рядом с нарезанным хлебом и кусками вяленого мяса, которое выложили из своей сумы Клочихины. Дрожащими ручками открыл Козелло-Зелинский штофик, налил первую долю в глиняную кружку – другой посуды под рукой, да, похоже, и во всей избе, не имелось – и уважительно подвинул ее Артемию Семенычу:
– Прошу, милейший, за встречу!
Артемий Семеныч пить отказался. Сыновья, глядя на тятю, дружно замотали головами: и мы не будем. Один Егорка охотно принял выщербленную по краям кружку, махнул водку в широко раскрытый рот и радостно выдохнул – сладко!
Штофик вдвоем с хозяином они прикончили быстро и сноровисто. Козелло-Зелинский вскочил из-за стола, собираясь еще раз куда-то убежать, но Артемий Семеныч властно его остановил:
– Погоди, сердешный, не бегай так быстро, а то запалишься. Сядь, пожуй хлебца, у меня к тебе разговор имеется.
– Не беспокойся, милейший, я не ради Христа прошу, я теперь постоянный приработок имею, и мне в этом благословенном селении открыли кредит.
– Как открыли, так и закрыли! – повысил голос Артемий Семеныч. – Сядь, не мельтеси! Разговор имеется.
Но Козелло-Зелинский то ли не услышал, то ли не захотел услышать, взялся убеждать, что кредит у него крепкий и штоф, несмотря на поздний час, он всегда добудет. А кредит потому крепкий, что добрые люди обеспечили его приработком и заплатят хорошие деньги, а он этими деньгами всегда рассчитается за штофики точно и без обмана.
– Я же, уважаемые господа, очень хороший чертежник и рисовальщик, – уже пьяненько хвалился Козелло-Зелинский, перебирая ножками на скрипучей половице, – я своего рода талант в искусстве. А здесь, представьте только, в нашей-то глухомани, привозят мне прекраснейшую бумагу, карандаши, чернила, перья и просят сделать простенькую работу, перерисовать вот эту мазню. Я вам сейчас покажу…
Козелло-Зелинский опустился на четвереньки, нырнул под лавку и вытащил оттуда длинный деревянный сундучок, а из сундучка – рулоны толстой белой бумаги, темный кожаный свиток и потащил все это в охапке, как дрова, к столу. Сдвинул в сторону пустой штоф, остатки хлеба и раскатал кожаный свиток. Тыкал в него указательным пальчиком и говорил:
– Меня попросили сделать десять копий. Да я их сотню могу нарисовать! Да-с! Сотню! А вы, милейший, боитесь, что мне доверия по кредиту не будет. Будет!
Егорка протер глаза, ближе придвинул две свечки, жирно коптившие в потолок, и хмель с него сдернуло, как дым из трубы порывом ветра. На грязном столе Козелло-Зелинского лежал чертеж. Тот самый чертеж, который Евлампий вручил Мирону, когда посылал их узнать, что за люди появились на краю долины, огороженной неприступным Кедровым кряжем. За этот чертеж, по которому Егорка показал пройденный путь, его и сплавили староверы на легком плотике по горной речке. Уцелел он тогда благодаря лишь чуду, сам же чертеж остался у Цезаря. А сейчас лежит на столе, прикрывая хлебные крошки, и неказистый человечек с растопыренными волосами тычет в него пальчиком и все хвалится, что он может нарисовать еще хоть сотню точно таких же…
«Нарисовать-то ты нарисуешь, – подумал, окончательно трезвея, Егорка, – да только надо ли их рисовать… Нету такой надобности. Все целиком заберем!»
И незаметно подмигнул, тронув за рукав Артемия Семеныча, а затем кивнул на дверь, показывая, что надо выйти на улицу. Тот неторопливо поднялся, пропустил вперед себя Егорку и вышел следом, прихватив по пути ружье. На улице остановился, оглянулся вокруг и недовольно буркнул:
– Ну чего подмигивал, как девке? Сказывай.
Егорка вилять не стал. Запираться теперь и наводить тень на плетень не было никакого смысла.
– Та-а-к, та-а-к, – нараспев протянул Артемий Семеныч, – чем дальше, тем потешней. Ну, суразенок, ну, сучонок, всем перцу под хвост насыпал, все чихать будем. Значит, слушай меня и делай, как велю. Слушаешь?
Егорка с готовностью кивнул головой.
Когда они вернулись в избу, Козелло-Зелинский все еще рассказывал Игнату и Никите о том, какой он умелый чертежник и рисовальщик, а братья, хлопая соловыми глазами, дружно и широко зевали. Артемий Семеныч занял свое прежнее место за столом и несуетливо – мудрый все-таки мужик был, по-житейски опытный, несмотря на своенравный характер – повел речь о своем, ловко подводя Козелло-Зелинского к нужным рассказам. А тот, еще сильнее захмелев и думая лишь о том, как бы добавить водочки, болтал без удержу, подпихивая пальчиком очочки, чтобы они не свалились с потной пипки махонького носика, и подробно излагал все, что требовалось узнать Артемию Семенычу и Егорке.