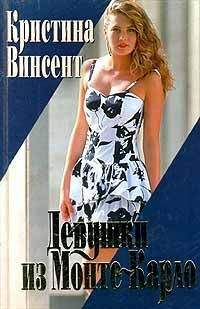В дорогу снарядили десяток, включая меня с настоящим сакмагоном, Пантелеймона и остроносого. Все ратники были из полка Воротынского. Старшим назначили Пантелеймона, но только над прочими сопровождающими, а главным представителем и докладчиком текущего положения дел был молодой веснушчатый парень с задорно вздернутым курносым носиком.
– А что, фрязин, верно сказывают, будто за морями-акиянами есть земля, где люди вовсе черные ходют и совсем нагишом? – улыбчиво спросил он меня, едва мы тронулись в путь.
– Верно, – кивнул я. – Только не нагишом. На поясе у них повязка.
– Ишь дикие совсем, а знают, что уд[48] хоронить надобно, – засмеялся он и тут же: – А меня Балашкой кличут. Сызмальства так прозвали, когда я еще толком словеса не выговаривал и ковшик так кликал[49], – пояснил парень чуть стыдливо. – Да я не обижаюсь. А правда, что…
Пока ехали он, честно говоря, изрядно притомил меня своими вопросами. Любознательность из него так и выпирала, не давая ни минуты покоя ни ему, ни окружающим.
Хотя на самом деле был он далеко не прост – в этом я убедился еще на подъезде к царскому стану, раскинувшемуся близ Серпухова. Вначале он всполошил его своим неожиданным появлением – охрана у опричников была организована не ахти, и Балашка в надвигающихся сумерках сумел проскользнуть через сторожевые разъезды, как нож сквозь масло.
Вообще-то затея была рискованная. Никто не возражал, потому что поначалу даже не поняли, зачем он нас остановил, едва вдали показались огненные точки костров. Остановил и, спрыгнув со своего коня, припал ухом к земле. Слушал Балашка недолго, с минуту, после чего еще раз огляделся по сторонам, зачем-то загибая пальцы на левой руке, затем на правой, вновь на левой, при этом беззвучно шевеля губами. Что считает парень – загадка, зачем мы тут стоим, когда нам осталось всего ничего, – еще более непонятно. Но он – старший, так что ждали и помалкивали.
– Вон там поедем, – негромко сказал Балашка, указывая на лощинку между двумя небольшими холмиками. – А потом вправо свернем.
– Стан-то по левую руку от нас, – возразил Пантелеймон.
– По левую, – согласился Балашка. – А мы поначалу пойдем вправо. Ништо, не заплутаем. Вы токмо за мной держитесь. И копыта у коней замотать надобно.
Это уж и вовсе не лезло ни в какие ворота. Я начал догадываться, да и другие, думаю, тоже, и даже еще раньше меня, но возразить отважился только Пантелеймон:
– Перебьют нас всех сослепу, тем и закончится.
– Чай, узрят, что не татары пред ними, – отмахнулся Балашка и принялся помогать мне закутывать конские ноги. – Ну что, фрязин, пройдем? – весело спросил он, когда мы управились.
Я неопределенно пожал плечами:
– Как повезет.
– В битве на везение не уповают, – поучительно заметил Балашка и легко, даже не касаясь стремени, птицей взлетел в седло. – Ну, с богом.
Нас окликнули только раз, да и то, когда мы были уже возле первых костров.
– Свои, – нахально ответил Балашка, даже не попытавшись ускорить ход коня.
– Кто свои? – негодующе переспросил какой-то ратник.
– Ослеп, что ли?! Зенки продери, вот и углядишь! – огрызнулся Балашка и, не удержавшись, озорно добавил: – Земщина в гости прикатила поглядеть, как вы тута воюете… с салом.
– Да ты на себя допрежь поглянь! – возмутился тот, после чего до него дошел весь смысл сказанного, и он взвыл: – Хто-о-о?!
Но мы были уже возле настежь распахнутых ворот треугольного серпуховского кремля. Честно говоря, не знаю, чем бы в конечном счете закончилась наша затея, потому что сзади уже бежали с саблями наголо, угрожающе завозились у костров сбоку, но бог миловал, и мы нос к носу столкнулись с небольшой группой всадников, во главе которой на белогривом коне я увидел царя.
Едва Балашка сообщил Иоанну тревожные новости, стан загудел еще пуще – народ откровенно запаниковал. Было с чего: оказывается, татары почти под боком, а сил у самого царя немного, всего-то несколько тысяч.
Но по-настоящему парень удивил меня в конце, когда в ответ на очередные попреки царя в измене и ехидное замечание о том, что земщина могла бы прислать гонца поопытнее да породовитее, он внезапно выпрямился, вытянувшись в струнку – не иначе комплексовал из-за небольшого росточка, – и звонким голосом отчеканил:
– Что до моего опыта, государь, то он и впрямь невелик, однако ж поболе, нежели у твоих молодцов, кои мой десяток проворонили. Хорошо, что мы свои, а что было б, коль на нашем месте татаровье оказалось?
Царь помрачнел, очевидно представив, что было бы, а Балашка, гордо выпятив грудь, продолжил:
– И твой пращур, великий князь Дмитрий Иванович по прозвищу Донской, стоя на Куликовом поле, на родовитость моего пращура, Дмитрия Михайловича, не глядел, а воев ему доверил.
Иоанн Васильевич засопел и зло ответил:
– Много там Дмитриев Михалычей было, на Куликовом поле. Всех не упомнить. А Донской – один.
– Один, – согласно кивнул Балашка. – А Дмитриев Михалычей и впрямь много. Токмо пращур мой, Боброк-Волынец, тоже один был.
Царь побагровел – а может, мне это показалось из-за неровного пламени факелов, освещавших его лицо, – недобро прищурился, некоторое время пристально вглядывался в веснушчатое лицо, после чего угрожающе пообещал:
– Я запомню тебя, бойкий. Ты от кого род свой ведешь?
– Батюшку покойного Григорием сыном Савельевым кликали, – не смутился парень. – Прадеда Игнатием окрестили, он Семенов сын, ну а дед Семен… – Он недоговорил, широко разведя руками – мол, сам знаешь.
– Стало быть, ты из седьмого колена, – задумчиво протянул царь. – То славно. А я, ежели от Дмитрия нить тянуть, из шестого. Только у меня чтой-то не видать Боброков. У тебя, часом, стрыев там нет? А то, можа, подкинул бы на разживу.
Стоящие подле царя угодливо засмеялись незатейливой государевой шутке. Годунов, которого я приметил поблизости от царя, тоже усмехнулся, но сдержанно. Балашка не улыбался.
– Два моих стрыя за Русь голову сложили, – печально заметил он. – И батюшка тож. Один токмо Русин и остался. А так из родичей и еще двое имеются – Яковец Крюк да дальний совсем, боярин Михайла Иваныч Вороной-Волынский. Токмо он от младшего сына Давида корень ведет, а мы все от старшего, от Бориса.
– Вот яко внучата честь своих дедов блюдут, – поучительно заметил царь, поворачиваясь к своему окружению, и распорядился: – С собой молодцев возьмем.
Гнев его, судя по лицу, пропал, и он вновь обрел благодушное настроение.
Как ни странно, приказ сопровождать государя, то есть находиться в его свите, не вызвал у наших ратников ни особой радости, ни энтузиазма. И снова Балашка не смолчал: