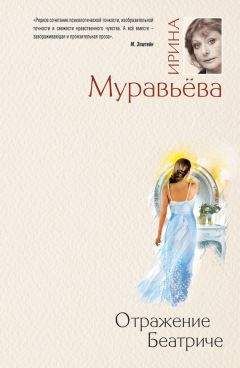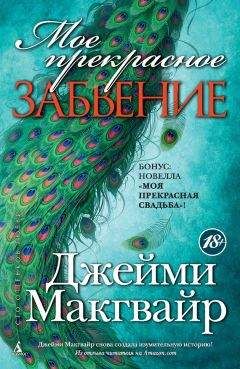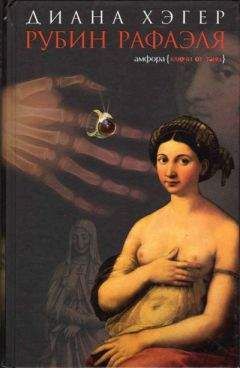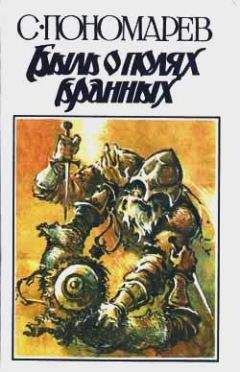– Его больше нельзя поднять, illustrissimo: он уже умер.
– Как? как? он умер? – неистово закричал Лучиани. – Как он смел умереть, не взяв назад своего отречения? Попробуйте горячими щипцами: может, он еще и жив; положите-ка ему огня под подошвы, это отлично приведёт его в чувство.
И судья уже вставал со стула, как будто желая помочь палачу; но Москати удержал его за руку и с негодованием воскликнул:
– Вспомните наконец о достоинстве вашего звания! Кто вы, судья, или палач?
Но Лучиани высвободился от президента и, подбежав к калачу, который прикладывал руку к сердцу Марцио, с беспокойством спросил:
– Ну, что?…
– Я уже докладывал вам, что он умер.
Тогда Лучиани в бешенстве обратился к трупу Марцио, осыпая его ругательствами:
– А, негодяй! ты выскочил из рук моих!
Потом он подбежал к столу, у которого сидели судии, и обратился к Москати, крича как полоумный.
– Ну, господин президент, теперь надо ковать железо, пока оно горячо; надо воспользоваться страхом, который это зрелище должно было навеять на душу обвиненной, попробуем-ка, каким голосом запоет она, когда ее подтянуть кверху веревкой.
– Довольно! – строго сказал Москати; заседание окончено, – и он встал, чтоб уйти.
Беатриче, бледная как полотно, чуть не упала в обморок; губы её посинели, в глазах потемнело. Но через минуту она пересилила себя, подняла голову и храбро подошла к трупу Марцио.
– Несчастный! – говорила она. – Ты не мог спасти меня; но я прощаю тебе и молю Бога, чтоб и он простил тебя. Ты много грешил; но ты также много любил и много страдал. Ты жил преступно, но погиб за правду. Я завидую тебе… да… моя жизнь такова, что я должна завидовать умершим. Я ничем другим не могу показать тебе мое участие, как оказав тебе последнюю услугу, и я делаю это от всего сердца.
С этими словами она закрыла ему глаза, которые были страшно открыты и наводили невольный ужас.
– Теперь идемте в тюрьму, – сказала она обращаясь к тюремщикам.
Но у неё подкашивались ноги, и она с каждым шагом готова была упасть. Мастер Алессандро снял шапку и, стоя в почтительном расстоянии от нее, сказал:
– Синьора, я знаю, что вы не можете дотронуться до меня, дай Бог, чтоб и я никогда не дотронулся до вас: но вам нужна поддержка. Если позволите, я позову кого-нибудь такого, на кого вы сможете опереться без боязни…. Она родилась от дурного корня и в тюрьме, во несмотря на это, она тоже цветок, который может смело предстать перед мадонной… я позову вам свою дочь.
Палач взял свисток и издал протяжный звук. Через несколько минут явилась молодая девушка, прекрасная собой, во бледная как воск. Бедняжка! и она знала, что рождена была для несчастья.
– Виржиния, – сказал ей отец, – дай свою руку этой синьоре… она такая же несчастная, как и ты.
Беатриче с первого взгляда почувствовала расположение к этой девушке; но когда она услышала, что ее зовут так же, как её покойную мать, то грустно улыбнулась ей и, опершись на её руки пошла с нею в свою тюрьму.
Мастер Алессандро не без намерения дал Марцио эту ужасную встряску; он знал, что тот по крайней мере умрёт на месте.
Он сделал это не из злости, но из жалости. Для того чтоб этот несчастный умер скорей и меньше мучился, палач пожертвовал тридцатью скудо, которые получил бы за его казнь; а для палача это поступок не ничтожный.
Президент Улисс Москати вышел из присутствия с сердцем, полным скорби. Его добрая душа, вследствие больших несчастий, недавней потери жены и любимой дочери, сделалась еще более способной сочувствовать бедствию других. Молодость Беатриче, спокойствие и искренность, с какими она говорила на допросе, подействовали на него. Он верил её исповеди, он был убежден, что она невинна. Он даже в тот же вечер отправился к папе, с целью высказать ему свое убеждение. Климент VIII чувствовал не менее его, что Беатриче невинна, но он знал также, что фамилия Ченчи обладает несметными богатствами, и ухватился за первую возможность истребить ее для того, чтоб завладеть её сокровищами. Результат посещения Москати был тот, что на место его был назначен президентом Лучиани, а Москати удалился в монастырь, где и окончил свою жизнь.
И вот, Беатриче опять перед судьями, но напрасно взор её ищет Москати. Она теперь в полной зависимости от зверского Лучиани, и глаза его блестят злобой.
– Обвиняемая! – начинает он, – вы слышали в прошлый раз, в чем вас обвиняют; хотите ли, чтобы вам прочли еще раз.
– Нет, не надо; это такие вещи, которые достаточно услышать один раз, чтобы никогда не забыть.
– Особенно, когда они совершены вами. Теперь я убеждаю вас сознаться, так как сообщники ваши уже сознались во всем и обвинили вас. Впрочем, в крайнем случае, правосудие может обойтись и без вашего сознания…
– В таком случае, зачем вы так настоятельно требуете его?
– Я настаиваю ради спасения души вашей. Как христианка и католичка, вы должны знать, что умереть, не исповедав своих грехов, значит погибнуть на веки.
– Меня удивляет, господа, каким образом забота о спасении ваших собственных душ может еще давать вам время думать о моей душе? Предоставьте всякому заботиться о самом себе. Если вы убеждены в моей вине, осудите меня, и только.
– Обвиняемая! Знайте, что дерзость, с которою вы говорите в присутствии ваших судей, может только ухудшить ваше положение, которое и без того уже довольно серьёзно. Я еще раз спрашиваю вас: намерены вы сознаться или нет?
– Я сказала всю правду. Ложного показания, которого вы от меня требуете именем Бога, в чьи руки я отдаю себя, вы не вырвете из меня ни мучениями, ни увещеваниями.
– Это мы увидим. А до тех пор надо вам знать, что мне удавалось справляться и не с такими умами, как ваш. Нотариус, пишите: «Во имя отца и сына и святого духа аминь. Повелеваем предать обвиненную пытке бдения (vigilia) на сорок часов. Назначаем присутствовать при бдении нотариуса Рибальделла на первые четыре часа; нотариуса Грифа на вторые, и нотариуса Бамбарино за третьи; и меняться им в том же порядке в течение всех сорока часов, если обвиненная не исповедает прежде своей вины».
Виджилией назывался табурет, вышиною около полутора аршин, шириною в четверть с небольшим, оканчивавшийся почти остроконечно; спинка была тоже с заостренным ребром.
Несчастную заставили сесть на этот острый табурет; ноги ей связали для того, чтоб она не могла дотрагиваться ими до полу и тем облегчать несколько страдание; руки завязали назад веревкой, которая спускалась на блоке с потолка. Около нее приставлены были сбирры, чтобы беспрестанно толкать ее в бока, притом она билась об острие сиденья и спинки. Палач мастер Алессандро, должен был каждые полчаса подымать ее на веревке и выпускать веревку из рук, для того чтобы мученица всею своею тяжестью падала на острое сиденье. Он исполнял только то, что ему было приказано. Слишком много глаз следило за ним; ему нельзя было бы ослушаться, да притом же у него было одно только средство обнаруживать жалость: это – избавлять людей от слишком долгих мучений и прекращать скорее их жизнь. Больше этого он ничего не мог сделать, а может быть и не хотел даже. Ему было доступно некоторое чувство сострадания, но ведь он был палач по ремеслу.