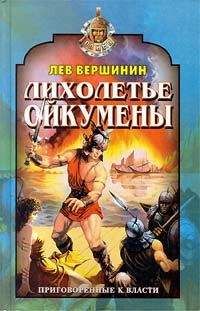Итак, пир был в разгаре. Феопомп, хлебнув вина, пел много и красиво, почти сразу перейдя к пэанам, что и понятно при таком-то вознаграждении, и Пирр слушал его с раскрытым настежь ртом и просил еще, и еще, и еще. Слепец же, узнав, что перед ним не кто-нибудь, а царский приемыш, да еще и наследник диадемы молоссов, решил поболтать с ребенком. И между прочим задал ему вопрос: кто из великих поэтов ему более по душе? И что же?! Дитя похлопало глазами, блудливо покосясь в мою сторону, и сообщило, что вообще-то, конечно, Эпаминонд, хотя в стратегии он мало разбирается в отличие от тактики, но и Парменион был неплох, особенно в конной атаке с фланга; что же до Лисандра, Ификрата и прочей, как он выразился, мелюзги, то у них можно заимствовать только второстепенные приемчики. В общем юное дарование, неполных восьми лет, заметь, от роду, обгадило одним махом всех более-менее известных писателей и, насколько я могу судить, сделикатничало, пощадив память Божественного, лишь из уважения к боевому прошлому певца…
Можешь представить себе, что творилось в зале? Эллинам хватило благовоспитанности хихикать в горсть, зато непосредственные сыны иллирийских гор и заливов уползли от хохота под столы. Сам царь изволил улыбнуться, и даже слепец, кажется, похмыкал в усы. Мне же, как не хотелось отправиться туда же, куда и иллирийцы, пришлось превозмочь смех, строго нахмуриться и спросить: «Неужели, царевич, я так плохо тебя учил, что ты путаешь поэтов с полководцами? Или чаша легкого вина так подействовала на тебя, почти взрослого мужа, что ты забыл имена авторов «Трудов и дней» и «Одиссеи»?» Я от души надеялся, что ученик мой назовет Гомера или Гесиода и дело будет сделано. Дитя же вновь сотворило большие глаза и преспокойно ответствовало: для истинных царей поэзия битвы прекраснее лепета кифары!
Это было непередаваемо! Хохот перешел в стоны, царь, смеясь уже в голос, приказал увести ребенка спать, я рухнул на лавку, а слепец торжественно поднял палец и заявил, что даже Божественный в юности не проявлял такой тяги к военной науке, как почтенный Пирр! Вот тут-то за столами сделалось тихо-претихо и под столами тоже. Лишь после мне объяснили, что, согласно поверьям, бытующим в этих плохо просвещенных местах, устами слепца, да еще кифареда, да еще и одержимого Дионисом, говорит само грядущее. Не знаю, не знаю… Впрочем, после пятой чаши старец и впрямь был более чем одержим покровителем лозы, и в любом случае подобное суеверие только на пользу моему ученику, которого – что скрывать! – я успел полюбить всей душой! Попомнишь мое слово: мне не придется жалеть о сделанном выборе!
Что же касается остального, то Пирр удивительно привлекателен. Речь идет не о внешности, как ты понимаешь, хотя в зрелые годы он, безусловно, будет красив истинной, мужественной красотой. Но он любознателен, смел, откровенен с теми, кому верит, однако надолго запоминает и причиненные обиды. Правда, в Иллирии он обид не видит, но стоит поглядеть на его прищур, когда мальчишка слышит упоминание о Кассандре. Он очень страдает, ибо не помнит никого из родни по крови. Любит сестру – заочно, поскольку и ее, конечно же, не помнит. Любит Деметрия, мужа сестры, и Деметриева отца, Одноглазого Антигона, за то, что сын его – муж сестры Пирра, а еще за то, что старик враждует с Кассандром. Памятью Пирра мог бы гордиться любой преподаватель мнемоники, мечом и копьем он владеет для своих лет просто чудесно, к знаниям тянется всей душой, хотя в выборе наук, как ты уже понял, несколько односторонен.
О многом еще хотелось бы поведать тебе, мой друг, не откладывая на потом, но, увы, смеркается, и скоро вернется царская охота. Меня неизбежно призовут к Пирру – должен же юнец похвалиться добычей! – и времени писать больше не станет. Помянутый же купец, мой посланец, отправляется в путь завтра до рассвета, и, таким образом, да станет тебе понятна обрывочность моего письма, прерванного, когда стилос лишь набрал разбег…
Скажу напоследок еще об одном: здесь, в варварских, далеких от центров политической паутины краях, понял я суть и смысл власти земной, не той, что знакома нам по жизни или описана в трактатах политологов, но той, какова должна она быть, дабы род людской, измученный своекорыстием самозванцев, узнал наконец мир, покой и справедливость.
Для азиата власть – надсмотрщик с бичом. Рожденные в унижении, иного обращения не приемлют, рабство принимают за эталон жизни, а добросердечие за слабость.
Эллин же готов принять и признать власть, пусть и власть монарха, при условии, что она не принесет ущерба его имуществу и унижения его личности. Царь для него – избранник, с коим заключен негласный договор.
У иллирийцев же, равно как и у молоссов, а также македонцев, чтущих старые обычаи, царь – не просто властитель, но отец, а отцов не выбирают. Таким образом, власть базилевса над членами семьи (мы бы сказали «подданными», но это было бы неточностью) обширна, но не безгранична и тем более – не унизительна, ибо отец вправе поучать шаловливых детей не только плетью, но при необходимости даже и железом. С другой стороны, заботливый отец никогда не оставит без помощи, совета и защиты ни единого из членов семейства и домочадцев, не делая разницы между более или менее преуспевающими, и суд его будет суров, но отечески справедлив.
Надо полагать, таков был и наш, эллинский, обычай в минувшие века. Ныне в изрядно искаженном виде подобное можно наблюдать в Спарте. Македонцы же, и это не секрет, блюли такой уклад совсем еще недавно, и не погибни от руки убийцы старый Филипп, сохраняли бы его по сей день.
Александр же, сын Филиппа, объявив себя Божественным, попрал старинные каноны, наложив, к радости льстивых азиатов, рабское ярмо равно и на гордых эллинов, и на единоплеменных македонцев, с таким оборотом никак не согласных. В этом и причина мятежей в Элладе, а также и столь кровавых расправ Божественного с друзьями детства, с вернейшими из близких. У деспота, не сознающего своей ответственности перед державой и полагающего, что держава – это он, не может быть ни близких, ни единомышленников, ни подданных, ни друзей – ему нужны рабы, и одни только рабы, и сатрап для такого равен в ничтожности последнему азиатскому пахарю…
Впрочем, довольно. Как ни жаль, вынужден отложить стило и вложить письмо в футляр. Слышны уже недалекие звуки охотничьих рожков и лошадиный топот. Суетятся под окном слуги, скрипят ворота, и ворчат усталые псы, пытаясь поскорее добраться до корыт с варевом. Пора и мне. Пожелай же удачи мне, другу своему, как желаю я всяческих успехов тебе; прости великодушно долгое мое молчание и не обижайся на такое впредь, но и не забывай при этом, как только сможешь часто, баловать меня весточкой, пусть и краткой, но от того не менее дорогой.