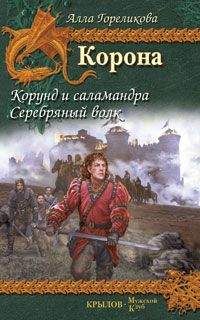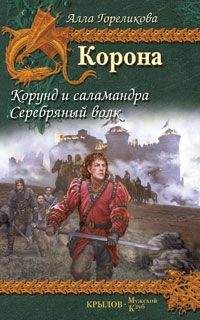Нас ждет глухая, без окон, черная карета — в таких не обычных арестантов возят, а коронных злодеев да отступников на Святой Суд. Странно… точно знали — или на каждую дорогу, с каждым отрядом такую отрядили?
Закрывается дверь. Теперь открыть — только снаружи.
— Поспи, — советует Серж. — Ты устал, а силы понадобятся.
И то верно, думаю я. И, диво, впрямь засыпаю…
3. Пресветлый отец предстоятель из монастыря Софии Предстоящей, что в Корварене
— Что ж, Анже… о многом надобно нам поговорить.
Свет из высоких окон бьет в глаза, и приходится щуриться, чтобы рассмотреть сидящих на возвышении, за глухим темным столом судей. Они облиты светом, они — символ, не люди… Впрочем, пресветлого я узнаю по голосу. Наш отец предстоятель в центре, по бокам — двое в ослепительно белых рясах; лиц их мне не разглядеть, и они кажутся настолько похожими, что я — про себя — нарекаю их Левым и Правым. Святой Суд. На столе пред судьями — Серегин серебряный волк и подаренная мне пресветлым реликвия.
— Воровство святынь, — брезгливо перечисляет Левый. — Бунт против Святой Церкви. Побег.
— Я догадываюсь почему, — роняет пресветлый. — Любопытство, Анже… тебя погубило любопытство. Так ведь? Однако почему ты не пришел ко мне со своими сомнениями?
Я молчу. Отец предстоятель все еще кажется мне… ну, если не светлым и мудрым, то все же выше меня, гораздо выше. Вот только не было у меня сомнений. А значит, и говорить не о чем.
— Хочешь знать, что будет с тобой? — спрашивает Правый. — Позорный столб и дисциплинное битие. А после — месяц заключения.
— А спустя месяц встретимся снова, — кивает Левый. — Нам нужно твое раскаяние.
— Знаю я, что вам нужно…
— Анже, Анже. — Пресветлый укоризненно, по-отечески вздыхает. — Кто говорит с тобой, подумай? Предстоящий пред Господом! Я имею право требовать, Анже! Но я прошу… пока — прошу. Покайся. Тебе ли судить о путях Святой Церкви?
— Не в чем мне каяться, — мрачно отвечаю я.
— Разве не чувствуешь ты стыда и сожалений, тайно, в ночи, по-воровски покинув приютившую тебя обитель?
Сожаления? Что ж, есть сожаления. Уж себе-то я могу в этом признаться. Но…
— Так велела мне совесть.
— Уж не хочешь ли ты сказать, Анже, что Святая Церковь заставляла тебя поступать вопреки совести?
— Я не готов взять на свою совесть еще одни Смутные времена. Даже ради Святой Церкви.
— Что ты знаешь о Смутных временах, — фыркает Правый. Я ошалело хлопаю глазами. Вот уж сказал так сказал! Что ты о них знаешь?!
— Мы дадим тебе время, Анже. Помолись… Быть может, Господь вразумит заблудшую твою душу. Но знай, Анже, — если завтра утром ты не склонишься пред волей Светлейшего Капитула… Ты ведь понимаешь, о чем я, верно?
— Да…
— Мне не хотелось бы выносить тебе приговор, Анже. Но выбора у тебя нет.
Выбор, думаю я… есть он, выбор. Всегда есть. Мне ли не знать… Столько раз за это дознание стоял я перед чужим выбором. С Ожье. С Карелом. С Лекой. С Серегой. Или вы скажете, что и у них не было выбора?…
— Уведите, — кивает отец предстоятель стражникам. — Пусть его покормят и отведут в часовню.
— Подумай, выдержишь ли позорный столб и плети, — выплевывает вслед Правый. Ей-богу, я чуть не смеюсь.
4. Анже, беглец
Серж пинает ногой кучу прелой соломы, кривится:
— Старый король, молодой король… Правосудие все то же.
— Прости… втянул я тебя…
— Хочешь сказать, у меня своей головы на плечах нет? Пока есть! Лучше вот что скажи, Анже, — тебе тоже пригрозили плетьми и тюрьмой?
— И тебе? — Я невольно вздрагиваю. Одно дело за себя выбирать, и совсем другое — когда по твоей вине…
— Не обо мне речь, — отмахивается Серж. — Меня волнует, что ты ответил.
— Ничего.
Скрежещет засов, скрипит дверь. Стражник размещает на полу две накрытые горбушками черного хлеба кружки.
— Обед.
— Ну-ну, — хмыкает Серж. — На твоем месте, Анже, я бы не рисковал.
— Я решил, Серж. Если и настанут снова Смутные времена, то не по моей вине.
— Да я разве о том! Есть я бы не рисковал. Тем более — пить. Если ты не согласился с ними… Уверен, что никакого наговора не подсунут?
— И то верно…
— Хотя о чем я, — машет рукой Серж. — Месяц голодом не просидишь…
— Я вот думаю, — медленно говорю я, — не в ту ли часовню молиться отведут, в которую сэр Оливер приводил как-то Серегу… И разве сказано, что я должен молиться один?
Серж замирает. Потом резко выдыхает сквозь зубы и выплескивает воду из своей кружки на солому. Хлеб летит туда же.
— А знаешь, друг Анже, что-то мне тоже приспичило… испросить у Господа вразумления.
И мы хохочем. Как помешанные… Напряжение ли выходит, внезапная ли надежда… «Он сказал, что я ничего не знаю о Смутных временах, представляешь?!» — выдавливаю я сквозь смех. «А мне, — вторит Серж, — что за пять лет жизни в монастыре можно было бы запомнить устав!»
Веселье прерывает скрежет засова.
— Кто тут в часовню? — лениво спрашивает стражник.
Мы вместе идем к двери.
— Оба, что ль? — Стражник хмурится и кричит в глубину коридора: — Эй, капитан, которого тут в часовню, разве обоих?
— Одного, — слышим мы зычный ответ, — Анже.
— Ну? — Стражник сует большие пальцы под ремень и щурится. — Кто Анже?
— Он, — кивает в мою сторону Серж.
— А ты тогда куда собрался?
— А я знаю законы, — широко, во весь рот улыбается Серж. — Заключенные имеют право на общение с Господом в любое время.
— Шибко умный? — ухмыляется стражник.
— Сомневаешься? — с дерзкой любезностью парирует Серж.
Я забываю дышать. Так нарываться… Ох, Серж! Но стражник только ухмыляется в ответ на Сержеву дерзость. И говорит:
— Сомневаюсь. Был бы умный, знал бы — я не стану вести двоих сразу.
— Отведешь его и вернешься за мной, — миролюбиво предлагает Серж.
Стражник кивает. Серж отступает на шаг назад, я выхожу в коридор, дверь закрывается, скрежещет засов.
— Идем, — бурчит стражник.
Узкая лестница, стиснутая неровно вырубленным серым камнем, несомненно, мне знакома. И часовня… маленькая, тесная даже, однако потолок ее теряется высоко над головой — и там, под потолком, льется в забранные фигурной решеткой окна дневной свет. Снизу он кажется ослепительным. Свет Господень… Это сделано с умыслом, понимаю я, этот свет сгущается над головой, манит, остается недостижимым… На него смотришь, словно из темной ямы… мучительно, больно… но перестать смотреть, опустить глаза — еще больнее. Да, эта часовня потрясает.
— Ты все-таки не хочешь покаяться, Анже?
Я опускаю глаза. Передо мной стоит отец предстоятель.
— Я хочу помолиться, — отвечаю я. — Мне дали время.