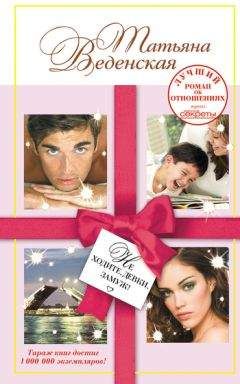Слушал его Матвей Петрович, хмурил седые брови. Молчал. Думал. А когда выслушал, сказал, как о деле решенном:
— Давай, дружок, так договоримся… Ты сейчас в деревню обратным ходом отправишься и будешь там меня дожидаться, когда я вернусь.
— И чего мне ждать, Матвей Петрович?
— А вот вернусь, тогда и узнаешь. Такой у меня ответ. Другого не будет.
И так твердо сказал это, что Речицкий понял — дальше разговор продолжать бессмысленно. Пора было прощаться.
Револьвер, вытащенный им из кармана, чернел на прежнем месте, на расчищенной дорожке. Он остановился возле него, оглянулся.
— Забирай, — разрешил Гриня, продолжая стоять на пороге избушки, — только иди и не оглядывайся.
«Иду и не оглядываюсь», — повторял Речицкий, стараясь попадать в свои старые следы, продавленные в глубоком снегу.
Старая печурка потрескалась, время от времени вылетали из щелей сизые дымки, и в избушке стоял горьковатый запах.
— Дед, может, глины сходить надолбить да обмазать печку, — предложил Гриня, изнывавший от безделья, — а то дымит и дымит…
— Невеликие господа, принюхаетесь, — неохотно отозвался Матвей Петрович, недовольный, что Гриня его потревожил, — да и сидеть нам тут осталось недолго, скоро домой отправимся.
— Когда? — оживился Гриня и даже с лавки привстал.
— Ты сегодня поедешь, вот прямо сейчас подпоясывайся и ступай.
— Боюсь я, дед, тебя оставлять! В прошлый раз уезжал, так извелся весь. Проснусь среди ночи и думаю — как ты здесь?
— Ночью, пожалуй, ты больше про Дашку думал, а не про меня. Ящик-то открой, выпусти малахольного.
Гриня послушно открыл зеленый ящик, стоявший в углу, и оттуда высунулась всклокоченная голова Феодосия. Он долгим взглядом обвел деда и внука, поднял глаза в потолок, неожиданно хихикнул и легко, проворно выскочил на волю, притопнул ногами по щелястому полу, словно собирался пуститься в пляс.
— Эк его бесы-то разбирают, — покачал головой Матвей Петрович, — так и не сидится ему на одном месте, все норовит коленце выкинуть.
Феодосий продолжал хихикать и перебирал ногами, будто на углях топтался. Приговаривал:
— Ручки связаны, личико побито, и никуда не убежишь. Далеко-о-о повезут!
— Он чего бормочет, дед? Может, по шее дать?
— Да не трогай ты его, пусть бормочет. Не в себе человек, без разума, какой с него спрос. В деревне поглядывай — чужие люди появятся или нет. За мной через три дня приедешь.
— Боюсь я, дед…
— Ты, как баба, Гриня, заладил одно и то же — боюсь да боюсь. Езжай — кому сказал!
Гриня уехал.
Скрипнули полозья саней за стенами избушки, коротко всхрапнул конь, в печке громко стрельнуло сырое полено. Матвей Петрович прислушался к тишине, которая установилась, и поднялся со своей чурочки, на которой сидел, погрозил пальцем Феодосию:
— Не балуй!
И вышел на улицу встречать Марию.
Он всегда угадывал, когда она шла к нему, всегда чувствовал — вот уже, совсем рядом. И всегда его охватывало необъяснимое волнение и одновременно — радость. Спокойнее, легче дышалось и шагалось веселее, будто кто поддерживал заботливо под руку и всегда был готов поддержать, если оступишься. Во всех делах и заботах, да и в самой жизни, своей и деревенской, ощущал Матвей Петрович невидимое, но постоянное присутствие Марии, иногда даже казалось, что она ходит у него за спиной, подсказывает и охраняет. И вот впервые за эти годы обратилась к нему за помощью, объяснила, не таясь: черные люди стремятся подобраться к ней, задумывая черные замыслы. Он все выполнил. И Гриню с газеткой отправил в город, и в деревне приглядывал — не появятся ли чужаки; и сейчас, вот уже в последние дни, исполнял ее просьбу. А просила Мария подержать еще несколько дней Феодосия в избушке, присмотреть за ним, не давая никуда отлучаться, и, когда она просила об этом, сказала со вздохом:
— Может, и отмолю его, может, душой вновь как Андрейка станет…
Историю Феодосия, пересказанную ему Марией, правда, не в подробностях, Матвей Петрович к тому времени уже знал и сказал, не раздумывая, коротко и ясно:
— Черного кобеля не отмоешь добела.
Мария укоризненно посмотрела на него, чуть качнула головой, но промолчала. И лишь спустя некоторое время спросила:
— Так уважишь мою просьбу, Матвей Петрович? Подержишь Феодосия при себе?
— Какие разговоры могут быть, — отвечал Матвей Петрович, — подержу, конечно. Не на шее же он у меня сидит…
Согласно этому обещанию, данному Марии, он и томился в избушке безвылазно, приглядывая за малахольным мужиком, отмахивался от Грини, который лез с расспросами, а сегодня отправил в деревню нежданного городского гостя, хотя и поверил ему. Ни с чем отправил, не сказав ясного слова, решив для себя так: если надо — пусть ждет.
Не знал он, что ему сейчас делать. Поэтому и ждал с нетерпением Марию, надеясь, что она подскажет ему верный выход.
Она вышла из-за тополей, как всегда, неспешно и плавно. Следом за ней послушно шагал белый конь. Вот они миновали широкую поляну и неслышно приблизились к избушке.
— Здравствуй, Матвей Петрович, — зазвучал протяжный напевный голос.
Он с радостью отозвался:
— И тебе, Мария, мое почтение.
— Знаю, что ждал, да не могла я раньше появиться, прости. Спрашивай…
Матвей Петрович коротко пересказал последние события и спросил: что ему дальше делать?
— Просьба моя прежней остается, пригляди еще за Феодосием. Не знаю, какое время потребуется, все-таки надеюсь я…
На этот раз про черного кобеля, которого добела отмыть невозможно, Матвей Петрович не вспомнил. Лишь кивнул головой безмолвно, давая понять, что просьбу он, конечно, исполнит.
— Спаси тебя Бог, — Мария поклонилась, — а теперь дозволь взглянуть на него…
Молча открыл Матвей Петрович дверь избушки, пропустил Марию, а сам продолжал стоять на крылечке, решив, что третий будет лишним. Но дверь не закрывал.
Мария вошла, остановилась напротив Феодосия, и тот сразу же перестал хихикать, перестал перебирать ногами, затих, опустив голову, сжался, будто усох, и маленькими, неслышными шажками допятился до чурки, сел. Мария подошла к нему еще ближе, положила руку на голову, сказала:
— Вспомни свой путь, он ведь перед тобой лежал — прямой, ровный…
Не стал Матвей Петрович слушать, что она скажет дальше и что ответит ей Феодосий. Твердой рукой закрыл дверь и даже с крылечка спустился. Топтал снег в отдалении от избушки, ждал, когда закончится разговор.
Закончился он не скоро. И закончился, похоже, плохо, потому что Мария, выйдя на улицу, вздохнула горестно и перекрестилась. Взяла коня под уздцы, повела его за собой, но на ходу обернулась и еще раз попросила: