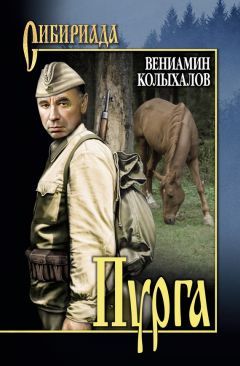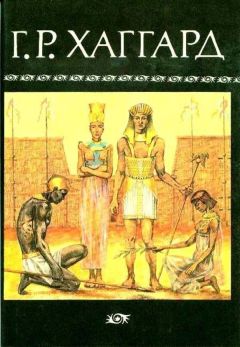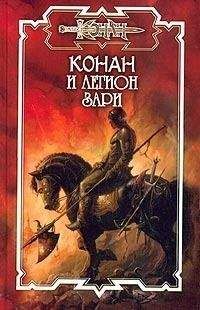В госпитале Запрудин невольно прокручивал в голове убийственно-правдивую хронику пережитых событий. Война-война, зачем ты так рано выбила из седла храброго наездника?! Зачем убрала из-под ног стремена, опутала госпитальными тугими бинтами? Комковатый ватный матрас в пятнах крови, йода и марганцовки, тощая ватная подушка, застиранные простыни, прикроватная шаткая тумбочка вгоняли Запрудина в долгую зеленую тоску. В многолюдной палате стучали костыли и глазастые доминошные костяшки. Сыпались анекдоты, имена целованных и невинных девчонок, эпизоды боев и житейские случаи. Пробовали едко шутить: подсчитывали — сколько на восемнадцать гвардейцев приходится теперь рук и ног. Недостача была крупной, ведь крупной была навязанная фашистами война.
После фронта Якова злили и раздражали симулянты, отлынивающие от тыловых трудов. Он заподозрил Остаха Куцейкина, догадался о воспалении его хитрости. Поутру староверец заторопился на улицу по нужде. Яков завел криворотого моляку за уборную, приказал оправиться на снег:
«Выбрасывай из ж… соль!»
Сучкоруб захлопал глазами, закрестился.
«Задницу перекрести, чтоб соль не глотала… Выкладывай! Буду день караулить, пока она комок не выплюнет. У нас в госпитале был такой шустряк, под трибунал угодил».
Куцейкин бухнулся в ноги стахановцу. Обхватив тощими пальцами черный пим, заскулил по-щенячьи.
«Бородатый хитрец! По военному времени мы тебя за тыловое дезертирство карать будем…»
Нет, не расколоть Остаху о худое колено почти костяное топорище. Бригадир поклялся смолчать о симулянтстве. Куцейкин взвалил на себя тяжелый молебный крест обещания махать топором до последнего изнеможения…
…Ииээй, боойсяя… паадааиит…
Из каждого лесного закутка вылетали грозные, предупредительные окрики. Это сам могучий нарымский урман зычно кричал врагу:
— Беррегиись! Упаду я, лягу стволами и кроной. Не встанешь с русской земли ты. Ляжешь погаными костьми… Боойсяя!..
Много сосен в бору. Много в Понарымье урманов. Везде ползут по ледовым и снежным дорогам скрипучие сани и подсанки. На них промороженные до самого первого годового кольца ровные бревна. Куда покатятся кольца? В цеха военных заводов. На пилорамы, где режут шпалу, брус, тес, плахи. Все равно будет отсечена врагу башка на плахе войны.
Пойдут бревна на телеграфные столбы: по ним придет счастливая весть о нашей победе. Древесина пойдет на шахтную крепь, подопрет угольные пласты в забоях. Сейчас вся страна превращена в один опасный забой и надо его подпирать трудом: плечами, руками, спиной. Люди сибирского тыла — надежная, необрушная крепь Родины. Не раздавить, не расщепить ее врагам.
…Беррегиись! Паадаиит!..
Запрудины подпиливали лучками сосны и тьму: она оседала, рушилась на глубокие снега. Все ниже опускались пласты скупого рассвета, неудержимо скатывались со скользких куполов.
Осветлялись небеса — ужимались огни костров. Теряли над тьмою недолгую власть, отдавали ее новой солнечной силе.
Телогрейку Яков давно снял, укрепил на пояснице тонкой опояской. При нагибе мороз холодит спину, стеженка не дает ему полной воли. Серая нательная рубаха мокра от пота. Мокреть просачивается через вторую байковую одежинку: спина покрывается махристым куржаком.
Немеет левая рука, спаянная с лучком. Даже культя упрела, издергалась на подсобляющем плече.
Неугомонный лучок закручивает опилковые усы вокруг ствола.
— Сыноок, отдохни.
— Не устаал.
Захару приятно слышать отцовское жалеющее словцо — отдохни. Оно вливает свежую силу, бодрит и подгоняет лучок.
Кочанной капустой хрустит под пимами снег, усеянный корой, хвоей и опилками. Взамен статных авиасосен остаются низкие стандартные пни, напоминающие о вековой стойкой жизни деревьев.
Тихеевские артельцы медленнее рушат стволы. Аггей с кумой пятую сосну не опрокинули — напарница стала выдыхаться. Дергает пилу вяло, рывками.
— Курица! Тяни ровнее! — строжится Аггей.
— В воскресенье бог дал рукам покой.
— Война отменила всевышнее распоряжение. Тяни-тяни шибче. Не зря план и паек одной буквой накрепко связаны — сапожным ножом не разрежешь.
— Умаялась я, Аггеюшка. Ослобони на перекур.
— У тебя табак силу ворует. Курево дыхалку перекрывает.
— Ослобони.
— Уроним — отдохнешь. Я лучком попилю.
— Не устал че ли?
— Костлявый я — пружинистый.
Рухнула головушкой к костру очередная кубатурная сосна.
Вдова Валерия сидела на пне, распускала толстую самокрутку на пряди дыма. Курила в глубокую затяжку. Хмельно кружилась голова. Сошли с мест, закачались деревья. Неподалеку дед Аггей в рубахе-беспояске, в отвислых ватных штанах водил лучком-смычком по сосне. В ушах Валерии, опьяненной куревом, слышалась давно забытая мелодия мелькнувшей юности. Полегла луговыми цветами. Оплавилась утренней парной росой. Уплыла по быстрому течению времени ромашковыми венками. Костяные гребешки обломали зубья о густые черные волосы, проредили их. Набежные годы дохнули на пряди ранней изморозью.
Тятя Панкратий — мужик цыганских кровей — последний раз густо смазал колеса кочующей кибитки и навсегда оставил табор. Под Бийском наладил крепкое хозяйство. Всего было вдоволь — хлеба, масла, овса для коней, сливок и гнутых пряников. Обезжирили Панкратия, самого согнули пряником. И в Тихеевке не распрямился, не согнал с глаз плотной пелены. Под завихрение массового артельства загребла метучая метла не одного мужичка-середнячка. Покатился истертой подковой и тятя красавицы Валерии.
В Тихеевке прыщавый, развязный конвойник не давал проходу кулацкой дочери. Стыдила служаку словами, секла взглядом, била по рукам. Стройная, с плавной покатинкой бедер молодайка ловко выскальзывала из хватких рук. Посмеивалась в лицо парню:
«Ты, бриллиантовый мой, при погонах, при ремне. Вот и ходи опогоненный — не опоганенный».
«Уступи!» — слышалась вослед устрашающая мольба.
Красавица ехидно крутила возле подола смачную фигу.
В субботний пасмурный вечер конвойник подкараулил у поскотины девушку, намотал на кулак пышные, волнистые волосы. Дохнув сивушной вонью, просипел: «Не явишься через час за артельную баню — навечно в тайге сгною…»
Валерия страшилась посвящать отца в тайну своих мук. Буйным был Панкратий. Не раз истязал жену, дочь. Разгонял табор топором и оглоблей. В Тихеевке ходил сумрачный, со стиснутыми зубами. Зло сверкал вороненой сталью глаз. Правая рука с растопыренными пальцами постоянно маячила над голенищем старого хромового сапога: была готова в любой миг выхватить оттуда цыганский отточенный нож.