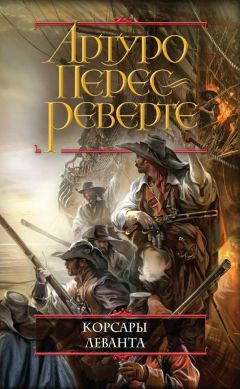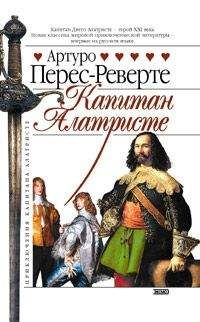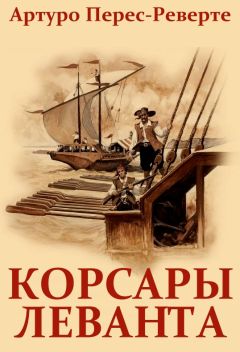— Какая там защита? — с досадой ответил капитан. — Каждый за себя, и в лоб всех драть.
— Как бы нас не отодрали, — находчиво ввернул сержант Кемадо.
Урдемалас испепелил его взглядом:
— Это я так, к слову, неужто не понятно? Если не будем рваться на выручку друг другу и гребцы расстараются, может, кто-нибудь и улизнет.
— Для мальтийцев ваши слова — смертный приговор, — хладнокровно возразил прапорщик Лабахос. — Они ввяжутся первыми, на них турки и навалятся прежде всего.
Урдемалас неприязненно скривился, как бы желая сказать, что это не его, прапорщика, собачье дело.
— Они же назвались рыцарями и принесли в свое время обеты, а по смерти отправятся прямиком в царствие небесное… Им, стало быть, и карты в руки. А нам, которым дорожка в райские кущи не так гладко укатана, на рожон лезть не приходится…
— Святую истину рекут уста ваши, сеньор капитан, — одобрил Кемадо. — Видал я как-то на одной фламандской картине преисподнюю, так я вам скажу — торопиться туда расчета нет…
Знакомые разговоры, подумал про себя Алатристе. Другого и не ждал. Все происходит в полнейшем и привычном соответствии с обычаями и традициями — даже этот полушутливый легкий тон, который не сменят, даже оказавшись у самого дьявола в когтях. Опасения и страх остаются личным делом каждого и огласке не подлежат. Восемьсот лет воевали с маврами, а последние полтора столетия только тем и заняты, что приводим в трепет весь мир, — немудрено, что выработали особый склад речи и манеру поведения: испанский солдат, сколь бы солоно ни пришлось, как попало убить себя не даст и подохнуть согласится не иначе как в соответствии с тем, чего ждут от его репутации друзья и враги. Люди, собравшиеся сейчас на мостике «Мулатки», это знали, да и все остальные — тоже. За то им и жалованье платят, хоть оно и не покрывает таких вот издержек, что предстоят сегодня… С этими мыслями Алатристе оглядел воинство. Любой из этих моряков и солдат, что стояли сейчас вдоль бортов и на куршее, предпочел бы метаться в жару на лазаретной койке, чем наслаждаться отменным здоровьем здесь: они смотрели на своих командиров в мертвой тишине и знали, что решать исход партии их пикам да бубнам. В гребной команде, впрочем, настроения были другие — кто давал волю страху, кто предвкушал долгожданную свободу, ибо для человека, прикованного к веслу из-за того, что он не тому богу молится, каждый мелькнувший на горизонте парус всегда возвещал надежду.
— Как людей расставлять? — спросил Лабахос.
Капитан сделал характерное движение, словно ребром правой ладони перепиливал левую:
— Для прорыва по фронту. Для того, чтоб не допустить возможных абордажей… Если пройдем, то два фальконета — на корму. Погоня может быть упорной.
— Покормить, стало быть?
— Да. Но огня не разводить. Дайте побольше чесноку и вина — это природная жаровня…
— Гребцам потребуется что-нибудь посущественнее, — заметил комит.
Урдемалас оперся о резные перила ограждения под фонарем на корме. Вид у него был утомленный, под глазами набухли мешки, кожа на лице — немытом, осунувшемся от зубной боли, от неопределенности и тревоги — посерела и засалилась. Алатристе подумал, что, наверно, и сам выглядит примерно так же. Разве что зубы не болят, а так все одно к одному.
— Проверьте замки и кольца у всех закованных. Турок и мавров, помимо ножных кандалов, — в наручники. Потом раздайте понемножку арака, который мы захватили в трюме, — полковшика на банку. Сегодня это будет действовать лучше плети. Но никаких поблажек! Чуть что — без разговоров голову долой, даже если мне самому придется платить королю за убыток… Вам ясно, сеньор комит?
— Ясней быть не может. Сейчас распоряжусь.
— Если галернику дают выпить, — с шутовской гримасой вставил сержант Кемадо, — то, значит, либо его уже употребили, либо приступают.
Против обыкновения острота никого не рассмешила. Урдемалас же поглядел на него весьма неприязненно и сухо сказал:
— Палубной команде и солдатам — кроме винной порции и чесноку, тоже выдать араки. А потом пусть будет под рукой обыкновенное вино, из тех, что поплоше, да разбавить его как следует, не жалея! Что же касается вас, ваша милость, — тут он повернулся к немцу-артиллеристу, — зарядите пушки всякими железяками и жестяными обрезками, стрелять будете по моему приказу и когда сблизимся вплотную. Вам, сеньор прапорщик, быть на полубаке, сержанту Кемадо — на правом борту, сеньору Алатристе — на левом.
— Гребцов надо будет по мере сил уберечь от огня, — сказал тот.
Урдемалас несколько дольше, чем нужно, задержался на нем колючим пристальным взглядом.
— Да, — кивнул он наконец. — Прикажите накрыть куршею, чем только можно, включая паруса… Если выбьют много гребцов, мы пропали. Штурман, все навигационные инструменты — убрать в безопасное место и тоже накрыть чем-нибудь… Со мной на мостик — двух лучших рулевых, вашу милость и восемь метких стрелков с мушкетами. Вопросы?
— Нет вопросов, — после краткого молчания ответил за всех Лабахос.
— Ну, разумеется, нам про абордаж и думать нечего. Стрельба и стрельба, пули, камни, картечь. И не медлить, кота за хвост не тянуть: ай, здравствуй и прощай, как говорится. Замешкаемся — пропадем. Ну а прорвемся — грести так, чтоб весла в дугу!
Присутствующие принужденно улыбнулись.
— Дай-то Бог, — пробормотал кто-то.
Капитан пожал плечами:
— А не даст, мы, по крайней мере, будем точно знать, где встретим день Страшного суда.
— Хорошо бы туда еще целенькими попасть, а не по кусочкам себя собирать, — заметил сержант Кемадо.
— Аминь, — сказал комит и осенил себя крестным знамением.
И вслед за ним, искоса переглянувшись, сделали то же все. И Алатристе.
Врут те, кто уверяет, будто не знает страха, — просто еще не довелось познакомиться: всему свое время. И в то раннее-раннее утро, при виде восьми турецких галер, перекрывающих нам выход в открытое море, в последние минуты перед столкновением, ныне именуемым в трудах по истории «морским сражением при Искандерене, или у Кабо-Негро», я, например, в полной мере сумел почувствовать ощущения, памятные мне по иным случаям: сводит желудок, и сосет под ложечкой, и даже чуть подташнивает, и мурашки бегают по коже. Со времен всяких приключений бок о бок с капитаном Алатристе я сильно подрос, а за два года, протекшие после приснопамятных боев за Руйтерскую мельницу, траншей Бреды и взятия Терхейдена, я, несмотря на немалое юношеское высокомерие и дерзкую уверенность, что держу Бога за бороду, набрался ума-разума и научился оценивать степень опасности. И то, что предстояло, я видел, отрешась от ребяческого легкомыслия, с коим недавно еще прыгал на борт неприятельского корабля, но здраво и трезво: дело было очень и очень серьезное и с совершенно непредсказуемым исходом. Оно могло кончиться смертью, что было не худшим, кстати, вариантом, а могло — пленом или тяжким увечьем. Да, я повзрослел настолько, чтобы ясно сознавать — через несколько часов могу на всю жизнь оказаться в кандалах на гребной палубе турецкой галеры — кто это, интересно знать, заплатит выкуп за бедного солдатика из Оньяте? — или вцеплюсь зубами в кусок сыромятной кожи, чтобы не кричать, когда будут мне отнимать руку или ногу. Сильней всего пугала меня и мрачила мой дух именно возможность получить тяжкую рану и стать калекой: глядеть на мир одним глазом или ковылять на деревянной ноге, сделаться изуродованной и смятой восковой фигуркой, какие мастерят, когда обет приносят, обречь себя на чье-то жалостливое милосердие, на нищету и подаяние — и все это в самые благодатные годы, в расцвете сил. Помимо многого прочего, очень бы не хотелось в таком виде предстать очам Анхелики де Алькесар, если, конечно, Бог приведет снова с нею встретиться. Не утаю, что именно от этой мысли начинали предательски дрожать у меня поджилки.