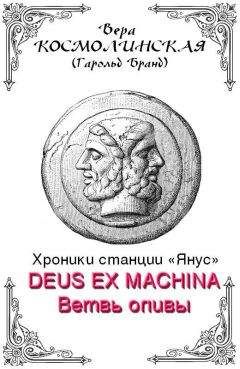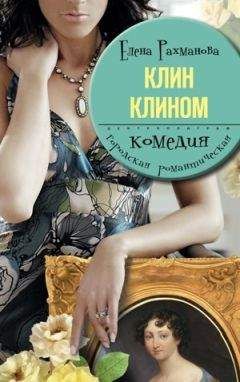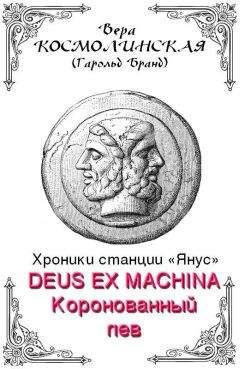— Фьери, — позвал я вполголоса.
Солдат встрепенулся, бодро завертел головой, будто филин — только не на все сто восемьдесят градусов, разве что на девяносто, и вскочил:
— Господин капитан…
— Где лейтенант и де Фонтаж?
— Должно быть, спят, господин капитан.
— Спят? — изумился я, и невольно посмотрел на небо — не начало ли уже светать, но никаких признаков этого пока не было. В небе дрожали крупные звезды. В лагере, правда, и впрямь стало значительно тише, чем было, но чтобы они и впрямь заснули, после того, что тут происходило, даже не верилось. — Как это — спят?
— Одну минуту, господин капитан… — Судя по всему, именно спросонья Фьери превратился в этакого заводного болванчика. Но он и впрямь изготовился рвануть куда-то в темноту — всегда был таким бодрячком, чем и гордился, подавая пример молодым.
— Стой. «Господин капитан» передумал.
Я вдохнул поглубже свежий ночной воздух и подумал было — да к черту все, забыть и отправиться бы тоже спать…
— Заберите этого человека. Не обижайте, но и ни в коем случае не развязывайте. И не заговаривайте с ним. Если будет много говорить сам, заткните ему рот, только аккуратно. Помните — собой он не владеет. И отправляйтесь уже спать сами.
— Будет исполнено! — с искренним энтузиазмом пообещал Фьери.
Подбежал и Мишель. Я пропустил его внутрь, а сам вышел и пригляделся издали к палаткам, которые сейчас интересовали меня больше всего. Обе испускали сквозь стенки слабое свечение. Это необязательно значило, что там никто не спал, но свет там горел, и в любом случае заглянуть туда стоило.
Я заколебался над трудным выбором — куда отправиться в первую очередь. Совесть требовала заглянуть сперва к девушкам, они более всех имели право быть в курсе всего, что и как происходит. Но откуда у меня совесть?.. И я отправился к палатке Ранталя и его друзей.
По сторонам горели костры, под ногами шмыгала какая-то живая мелочь. Уже подходя к палатке, я окончательно убедился, что там не спят — изнутри доносились голоса, и довольно отчетливые. Слуг поблизости и снаружи не было — кто-то устроился позади в своем маленьком шатерке, кто-то, возможно, был внутри.
— Ты настоящий нечестивец, Бертран… — раздраженно говорил Лигоньяж.
— Да сами-то вы кто!.. — неожиданно многословно возражал д’Авер, но на него явно обращали мало внимания.
— Как вы можете во все это верить? Это же чудовищный папистский заговор! Чтобы не отвечать за свои преступления, за покушение на адмирала, раз дело не выгорело, они придумали каких-то хранителей! Нашли козлов отпущения — какую-то несчастную общину, да еще ту, что хочет только мира, и свалили на нее все грехи, будто все подлости, что они творят, творят вовсе не они, а все это одно подстрекательство тех бедолаг, чтобы посеять меж нами смуту. Да меж нами смута была от века! И навеки! Ибо все в них — одна неправда! И как только тебя угораздило влезть в самое змеиное гнездо?!
Послышался вздох.
— Может, ты и прав, Шарль…
— Да как он может быть прав? — горячился д’Авер.
— Гиасинт, ты у нас душа невинная и незамутненная, это нам хорошо известно…
— Но твои единоверцы, знаешь ли… — пробормотал Бертран.
— Вот!.. — со зловещим торжеством воскликнул, будто припечатал, Лигоньяж.
— Что «вот», что «вот»?!.. — кипятился д’Авер.
— А не была бы она католичкой, — приглушенно и искренне печально проговорил Лигоньяж, — нечистый бы к ней не подступился, чтобы смущать какими-то видениями. — Вот увидишь, Бертран, едва примет она нашу благую веру, все эти ее страхи как рукой снимет.
— Не могу, — после паузы, вызванной каким-то замешательством, сказал Бертран. — По завещанию родителей я не могу ее к этому принуждать.
— Тебе нужно разрешение родителей, чтобы спасти невинную душу? — довольно ядовито поразился Лигоньяж.
— Все это неправильно, — снова распетушился в мрачной тишине д’Авер. — Мы веруем в одного Бога, в одного Иисуса Христа…
— Церковь никогда не была ему близка, — уверенно возразил Лигоньяж. — Верьте в кого хотите, а церковь ваша дьявольская, настоящий князь мира сего.
«И опиум для народа», — машинально прибавил я мысленно и даже не без одобрения. — И не она одна. Если не правит одна сволочь, то ее место занимает другая, остается только выбрать меньшее из зол, или знакомое — и смягчать последствия.
— Знаете что, Лигоньяж… — обиженно заговорил д’Авер. — Вы… вы… заблуждаетесь! И как заблуждаетесь! Множество чудес подтверждает истинность нашей веры! Только слепец этого не увидит!
— Да ты сам как слепой кутенок, — сердясь, но и с жалостью ответил Лигоньяж. — Тычешься носом и не знаешь толком, откуда молоко берется…
— Да что там говорить! Не правы вы, вот и все!
— Да ради Бога… — проворчал Лигоньяж. — Когда оно не далеко заходит, то и Бог с вами. Но ты на бедняжечку-то посмотри, она же с ума сходит! Надо что-то делать.
И воцарилось тягостное задумчивое молчание.
Замерев в двух шагах от входа, я едва не отступил назад.
В каком-то смысле, услышанная перепалка уже сама по себе была ответом на вопрос, не могло ли и тут быть замешано что-то искусственное — поведение Лигоньяжа днем показалось мне все-таки весьма странным. Но ведь люди ведут себя неразумно и непоследовательно не по какой-то одной искусственной причине, это вполне в их природе, и не надо их для этого заставлять так поступать какими-то изощренными методами. Последние больше имеют смысл, когда нужно заставить кого-то вести себя правильно. Жиро вел себя вполне пристойно, пока все не сорвалось, а то, что было после — выходило за рамки его программы.
Неполная обработка давала Жиро некоторую свободу и достоверный внешний вид, но стоило коснуться каких-то вещей, как он стал вести себя совершенно неадекватно, а после и вовсе начал отключаться, когда что-то в его извилинах вступило в неразрешимый конфликт.
То ли дело та девушка, которую мы повстречали с Огюстом в том жутком доме… по-своему она была великолепна… и так хотелось верить, что у нее есть шанс на возвращение, а не на гибель по приказу или впадение в полную бессмысленность.
Но в любом случае, появление Жиро с этим письмом было напоминанием о себе, и о том, чем все кончится даже в том случае, если все кончится хорошо. Тук-тук. Помните, вы смертны. Хоть никто и не заблуждается на этот счет, все равно мерзко.
И эти мысли приводили к тому, что какими бы идеями ни руководствовался Лигоньяж, во многом он был искренен, это чувствовалось, и он был прав. Жанна сильно рисковала рассудком, оставаясь рядом с нами. И жизнью тоже. Почему бы ей не выбрать такого, как он, полного простых глупостей, от худших из которых ей было бы легко его удержать? И он был бы для нее лучшей защитой — непроницаемой, глухой, вязкой, беспечной и прозаической стенкой между ее необычностью и миром.