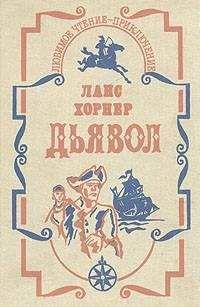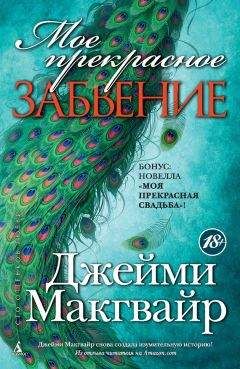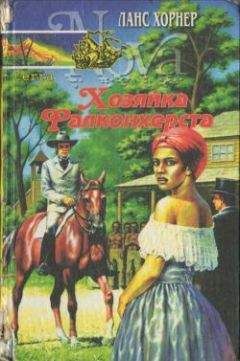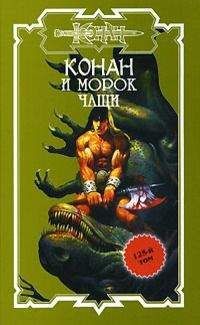— Спроси у него сам, порожденье зла, пес шайтана, пожиратель помета, насильник верблюдов, искуситель младенцев и сын магребской потаскухи. — Голос был женским, хотя и низким, и бросал обвинения Хуссейну из заросшего окна в стене над ними.
— Моя нежная матушка обращается к тебе, Хуссейн. — Поднял вверх палец Баба, открывая происхождение голоса. — Не собираешься ли ты сказать мне, что она тоже замышляла что-то против меня?
— Она…
— Говори мне правду, Хуссейн.
— Да, скажи ему правду, ты, магребский ублюдок. Скажи тем же голосом, которым ты совращаешь маленьких девочек, — продолжал голос.
— Твоя мать невиновна, о Баба. Точно так же и Мансур! Я только пытался выгородить себя. Аллах милостив, будь и ты милостив ко мне. Я стану самым преданным твоим последователем. Подари мне жизнь, чтобы я мог служить тебе, и я докажу, что смогу сделать для тебя живой больше, чем мертвый. Позволь приползти к тебе на брюхе и поцеловать кончик твоего бабуша. Позволь мне в кандалах и в пыли приползти к тебе, чтобы дотронуться до тебя. Прогони меня в пустыню, но не убивай меня, Баба. Я молод и люблю жизнь так же, как и ты. В моих жилах течет кровь нашего отца, так же как и в твоих. Мы же братья, Баба. Помнишь, как в детстве мы спали вместе, играли вместе, вместе скакали на лошадях. Помнишь, как мы вместе обладали нашей первой женщиной. Спаси меня, Баба, спаси меня.
— Продолжай, Хуссейн. — Баба потянулся к блюду с кускусом и скатал липкий шарик между большим и указательным пальцами, а потом положил его себе в рот. — Продолжай, брат мой, разговор с тобой доставляет мне истинное наслаждение. Да, я помню, как ты ругался, когда мы спали вместе. Помню, как ты всегда выбирал себе лучшую лошадь. Помню, как ты всегда спорил, что вышел победителем в каждой игре, в которую мы играли. И я помню, Хуссейн, как мы вместе делили нашу первую женщину. Помню, ты сказал, что должен быть первым. Что ты не сможешь после меня, потому что я черномазый. О да, Хуссейн, я все помню. Ты всегда меня ненавидел. Даже сейчас ты меня ненавидишь.
— Не ненавидел тебя, Баба, а завидовал тебе! Женщины хотели тебя больше, чем меня. У меня было только одно, чего не было у тебя. Цвет моей кожи! Сделай же мне это ничтожное одолжение, Баба. Оставь меня в живых.
Баба медленно опустил голову, безжалостная улыбка придавала его лицу такое выражение, которого Рори никогда раньше не видел.
— Есть ли еще какие-нибудь одолжения, которые ты хочешь попросить у меня, Хуссейн? Боюсь, я не смогу сделать тебе это одолжение. Но раз уж ты должен умереть, может, ты захочешь выбрать, как тебе умереть. Может быть, ты хочешь, чтобы мои слуги протащили тебя за лошадьми, привязав за пятки? А может, ты хочешь, чтобы тебя распяли на земле, а потом промчались на своих скакунах над тобой? Потом мы можем проткнуть тебя стальными прутьями на воротах, и пусть канюки обглодают твои кости добела. Или, если ты хочешь умереть по-настоящему необычной смертью, мы удобно посадим тебя на молодой побег бамбука, вставив его тебе в задницу. И ты сам сползешь по нему на землю. Молодой бамбук растет быстро, и он острый, как кинжал. Его острие пронзит тебя за день, может, чуть дольше.
— Баба…
Баба вяло взмахнул рукой.
— А-а… все это неприятные смерти. Для тебя я выберу приятную. У тебя, Хуссейн, будет смерть, о которой мужчины могут только мечтать. Женщины из гарема моего отца будут без ума от такого молодого жеребца, как ты. Мой отец был человек пожилой и ублажал их не часто и не слишком рьяно, и они разболелись от стерильных объятий своих евнухов. Но ты, Хуссейн! Они будут гордиться тобой и твоим твердым ярдом. Мы дадим тебе немножко опиума, чтоб ты ублажал их дольше и лучше. Ты ведь всегда был любителем гаремов, ну а теперь ты насладишься ими всласть. В гареме моего отца есть даже нзрани-блондинки, а тебе они так нравятся. Но подробности узнаешь у моей матери, которая все это подготовила.
Хуссейн всхлипнул, тело его затряслось в конвульсиях:
— Только не это! Только не это, Баба! Избавь меня от этого! Раз я был свидетелем подобного. Если тебе надо убить меня, сделай это быстро своим кинжалом или пусть Бистака отрубит мне голову одним взмахом своей турецкой сабли. Но не отдавай меня женщинам. Сжалься, Баба.
Баба и Мансур обменялись взглядами; Баба кивнул.
— Ах, ты сделал выбор, Хуссейн. Больше всего ты боишься женщин. Поэтому остановимся на женщинах. Снимите с него кандалы! Дайте ему опиума и пусть запьет его добрым глотком шпанских мушек. Отведите его к Бистаке, который охраняет двери в гарем моего отца. Пусть играют дарбуки! Пусть люди танцуют! Пусть пир продолжается! — Баба встал, рука его опустилась на плечо Рори. — Пошли! Такого ты никогда не видел, и вряд ли когда-нибудь увидишь. Зрелище не из приятных, но ты узнаешь, как мы расправляемся с предателями здесь в Сааксе. Мансур, ты тоже. Это и для тебя послужит уроком. Мы трое встанем на балконе и будем наблюдать. — Он обернулся и поднял лицо к уставленному салатом окну над собой:
— Мать моя, все женщины уже у себя в комнатах и ты сказала им, что они должны делать?
— Да, сын мой, и я пообещала свободу тем женщинам, кто сделает все как следует.
— Горят ли факелы во внутреннем дворе гарема?
— Каждый факел горит, как костер.
— Тогда мы идем. Не подобает, чтобы кто-нибудь кроме меня, моего брата Мансура и моего брата лорда Саксского видел лица жен моего отца.
Баба повернулся спиной к пленнику и вошел в дверь дворца. Рори и Мансур последовали за ним. На этот раз они вошли с противоположной от апартаментов Рори стороны, но коридоры были такими же длинными, а внутренних двориков было так же много. Когда они подошли к украшенной серебром двери (на двери у Рори украшения были всего лишь из бронзы), Баба сам открыл ее. В комнате было темно и пахло затхлостью, как там, куда никто давно не заходил.
Апартаменты моего отца, — объяснил Баба, подняв жалюзи и проведя всех на балкон, скрытый тонкой резьбой по дереву, дававшей возможность человеку, стоящему на балконе, наблюдать за тем, что происходит во дворе, при этом будучи невидимым. Но Баба не собирался прятаться сегодня вечером и раскрыл настежь все створки, чтобы ничто не мешало наблюдать за внутренним двором под ними. Это был такой же двор, как и под комнатой Рори, только побольше. Весь двор был окружен лортиком с колоннами, который бросал тень на ровный ряд дверей. В центре находился круглый бассейн с фонтаном. Вокруг не было ни души. Красноватый отблеск горящих факелов освещал все пространство, превращая струйки фонтанчика в жидкое пламя. Кроме брызг фонтанчика, не было ни звука, ни движения. В тишине Рори услышал, как открывается еще одно окно. На противоположном конце двора растворилась решетка, и он увидел очертания двух женщин в чадрах. Руки у одной были черные, а у другой белые. Они прошли сквозь раскрытые створки и стали на балконе.