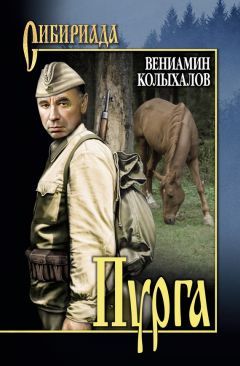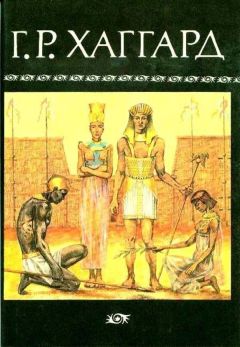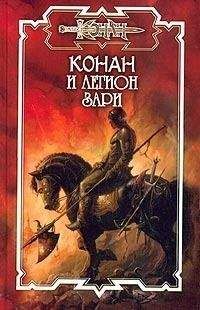Старая полуторка хлопала бортами. Мальчик пытался под грубую дребезжащую музыку вклинить мотив любимой песни «В лесу родилась елочка». Борта дробили слова. Сверху давили свербящие шумы самолетов. Детей-сирот в машине было человек двадцать. Укутанные кто во что, они сидели плотненько друг к другу, не сводя глаз с пожилой воспитательницы в запотелых очках. Пофамильный список ребят хранился у нее со всеми документами в кожаной полевой сумке, перекинутой через плечо. Несмотря на это, предусмотрительная женщина перед отправкой детей из осажденного города нарезала из картона бирочки. Смачивая слюной химический карандаш, переписала фамилии, имена детей, дату и год рождения. Прочными нитками привязала бирочки к запястьям мальчишек и девчонок. Приняв картонки за игрушки, дети тут же принялись щелкать по ним пальцами, перегонять вместе с ниткой возле кулачков.
Дорога жизни и смерти чернела пятнами машин и людей. От бомбежек фашистских самолетов, стремящихся во что бы то ни стало перерезать «дыхательную трубку» Ленинграда, на тревожной Ладоге образовались многочисленные проломы. Вода крутила в них грязные льдины, расщепленные борта машин, кошелки, различное тряпье. Полуторка проходила близко возле одной такой воронки. На воде полузатопленным бакеном покачивалась красная торосина. По краям кровь успело смыть, верхний скол полыхал рубиновыми гранями. Силой воды торосину терло о ледяной излом, покрытый трещинами и сосульками.
Шофер — черноусый грудастый парень из фабричных рабочих — вел полуторку с открытой дверцей. Часто вставал на подножку. Задрав голову, смотрел в небо, наблюдая за развязками воздушных боев. Переводил взгляд вдоль Ладоги, пытаясь охватить взором вереницу машин, высмотреть — нет ли где вынужденных заторов.
Красивую куклу возле окровавленной льдины водитель заметил не сразу. Притормозил, соскочил с подножки. Под левым бортом машины на крепких зажимах хранились лопата, багор, ведро и тонкий трос. Примурлыкивая песенку, детинушка снял багор. На воде кукла лежала щекастым лицом вверх. Поднятые ручки в кружевном обрамлении молили кого-то о спасении. Минуя глубокие трещины, шофер осторожно подошел к лыве, забагрил большую куклу за шелковый голубой подол платьица.
Мокрая кукла пошла по детским рукам. Вытирали ей слезы, поправляли кружева, баюкали и ласкали. Мальчишки хихикали, теребили плаксивых барышень. К «утопленнице» не притрагивались. Павлик достал из кармана рогатку, проверил на растяг узкие ленточки настоящей противогазной резины. Сестренка Гутенька жалась к нему, греясь крупной дрожью: ее напустила на себя нарочно, чтобы братик обнял, пожалел на зависть подружек, не имеющих родню и защитника. Братцу было не до дрожащей сестренки. Он впился глазами в черный самолетный клин, взламывающий ледовое небо над ледовой дорогой. Павлик принимался считать, укладывать на пальцы черные крестики. Пальцев не хватало. Крестики сливались, двоились, растягивали клин. Ни в какую не поддавались точному пересчету.
Водитель прибавил скорость. Укутанные тела зашевелились сильнее. Наседка-сопроводительница строго, прищурно смотрела на чернеющий в поднебесье клин. Инстинктивно пригибала торчащие рядом головенки, накрывала их пуховой дырявой шалью. Волнение воспитательницы передалось детям. Курносая конопушчатая девочка плотно прижала к груди спасенную дорогую куклу, прикрыла ее полой старенькой жакетки.
Гутенька задрожала сильнее, теперь непритворно. Павлик снял с нее рукавички, подышал на руки. От дыхания зашевелилась на запястье картонная бирочка. Братик спрятал ее под рукав кофтенки. Потрогал свой картончик — на месте. Он отогрел сестренке, умеющей считать до восьми, пальчики, подышал теплом в ее рукавички.
Машину подбрасывало на неровностях. Гремели колеса, гремело подвешенное под бортом ведро. Сидящие на сене, на мешках с опилками сироты крепко держались за натянутые от борта до борта толстые веревки.
Павлик вложил в язычок рогатки осколок кирпича — в кармане боеприпасов хватало — натянул резинку. Долго целился в вожака самолетной стаи. Выстрелив, протерев от кирпичной пыли неприщуренный глаз, возликовал:
— Агга! Сковырнулся!
К великой радости стрелка, стая неожиданно распалась. Крестики засуетились. Через нарушенный строй, навстречу ему понеслись другие крылья, прикрывающие ладожскую трассу и город, сжатый упругим блокадным кольцом.
Над самолетами на разной высоте вскидывались дымные шапки разрывов зенитных снарядов. Павлик продолжал стрелять по крестикам кирпичными пулями. Каждый ворошок дыма принимал за точное попадание.
Разрозненную стаю влекла оживленная дорога в глубь тишины и покоя. За время бесчисленных ночных и дневных налетов немецкие асы пристрелялись, прибомбились к пульсирующей артерии: множество раз выпускали из нее кровь. Но артерия билась учащенным пульсом, навязанным ритмом войны, эвакуации и упорной блокады.
Зеленая полуторка мчалась на полном ходу, стремясь скорее покинуть предел досягаемости вражеских неотвязных самолетов. Колеса коснутся надежного берега, там — спасение. За многие опасные рейсы грудастый водитель насмотрелся на жуткие ладожские трагедии. Обламывались под лед боевые тягачи, легковушки, сани. В месиве льда и тягучей ледяной воды тонули люди, пурхались кони. Видел ползающих в агонии коров, выброшенных из машины на лед мощной взрывной волной. «Мессеры» проносились над ними, опоражнивали пулеметы. Ледовый напай на Ладоге дробился от бомбовых разрывов. Стервятники с крестами на фюзеляжах кружились над колоннами беженцев, на бреющем полете вели омерзительное ледовое побоище.
Но город стоял, удивляя страну и мир вздыбленной людской волей. Стояли насмерть дома, заводы, мосты над Невой. И тогда солнце беспокойным переливом лучей взывало к врагу: Не убий! Не разрушай! Но фашисты давно не внимали разуму Солнца. Фюрерская толстокожая книга «Моя борьба» явилась для фашистской Германии своеобразными нотами: она разыгрывала по ним душераздирающие марши. В этой какофонии сливались долбежные звуки кованых сапог, рев «пантер» и «тигров», грохот дальнобойных орудий, нацеленных на блокадный город.
…Павлик и Гутя проснулись сырым декабрьским утром: их будило постоянное ощущение голода и озноба. Сквозь узкое окно, многослойно оклеенное для тепла и светомаскировки старыми газетами и журнальными листами, не просачивалось ни капли крепнущего рассвета. Сестренка шепнула на ухо Павлику: «Давай в один голос позовем маму». — «Давай».
«Маа-маа!»
От противоположной стены никто не отозвался. Дети сообразили: мама ушла на военный завод, нас не стала будить.