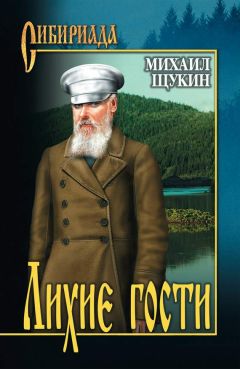Все они ждали особого сигнала, который обещан им был Цезарем и согласно которому ринутся они в небывалое дело, а когда оно выгорит и сладится, станут они, каждый сам по себе, кум — королю, и сват — министру.
Держался лагерь варнаков на обещаниях Цезаря. И были они не пустословны. Что обещал — то и исполнял.
Никифор — видно, для устрашения — продолжал висеть на стене, и тянуло от него все крепче кислым, смрадным запахом. Данила пытался привыкнуть, принюхаться, но получалось плохо — каша, которую подавали по вечерам, не лезла в горло.
Попросил Ваньку Петлю:
— Покойного уберите.
— Уберем, как ты загнешься, — отвечал ему Ванька Петля и скалил редкие зубы, коричневые по краям от табака. — Любуйся, парень, и думай. Думай, парень!
А чего тут думать?!
И так ясно, что тело Никифора не убирается со стены для того, чтобы домучить Данилу до края. Прикидывая, что его может ожидать, он никак не мог взять в голову и уяснить для себя: а чего, собственно говоря, от него добиваются? Про постоялый двор им известно, о приезде Луканина ему ничего не ведомо, — и варнаки, похоже, поняли это, никаких признаний от него больше не добивались. По какой причине тогда держат здесь — не понятно!
Но у Цезаря, оказалось, были свои виды.
Однажды под вечер он призвал к себе Данилу. Стоял на крыльце, картинно облокотившись о перильце, задумчиво покусывал ноготь мизинца и щурился, глядя на закатное солнце. За спиной у него маячил Бориска. Шлепал толстыми губами и что-то говорил торопливо, но Цезарь в ответ только недовольно вздергивал головой, будто отгонял надоедливую муху.
Подошел Данила, гремя цепью, встал возле крыльца.
— Слушай меня, — Цезарь перестал покусывать ноготь мизинца и сплюнул, словно убрал с губ невидимую соринку. — Хочешь, чтобы я тебя отпустил? Хо-о-чешь… Могу отпустить. Только милость мою ты заслужить должен.
И дальше сказал такое, что у Данилы подсеклись колени…
Белоярск справлял масленицу и был насквозь пропитан жирным ароматом блинов, которые выпекались и съедались в эти дни в несчетном количестве.
Блин не клин, брюхо не расколет!
Тем более если под водочку. Только попервости берет опасение — как бы не перебрать, а дальше — как по маслу: первая рюмка колом, вторая — соколом, а третья — плесните полнее, для нашего удовольствия!
По Александровскому проспекту неслись, одна за другой, разнаряженные тройки — в бумажных цветах и лентах. Звонко, как выстрелы, щелкали бичи, слышались удалые возгласы; добавляя веселости в общий гам, заливались медными голосами под дугами колокольчики. С правой стороны Вознесенской горы, неподалеку от усадьбы Луканина, устроили гладкий спуск для катанья на санках, и висели теперь над горой, не умолкая, визг, крик, свист — понеслась душенька, обрываясь от восторга, на легких салазках, да с ветерком!
— Мас-лянь-ица, — повторяла по слогам Луиза, запрокидывала голову и рассыпала такой звонкий и заразительный смех, что Захар Евграфович тоже начинал смеяться без всякой видимой причины. Они шли к дому, досыта накатавшись с горы и вывалявшись в сыром снегу с головы до пят. В глаза им ослепительно сияло солнце, похожее на поджаренный, румяный блин.
— Луканьин… — Луиза забежала вперед, заступая дорогу, и раскинула руки, словно собиралась взлететь; глаза ее сияли шальным блеском. — Луканьин! Люб-лю тебья! Люб-лю!
Кинулась к нему на шею, лихорадочно принялась целовать, а затем, словно разом обмякнув, примолкла в его крепких руках и… заплакала.
— Ты что, Луизонька, что с тобой? — встревожился Захар Евграфович; скинул рукавицу, принялся вытирать крупные слезы с милых щек. — Почему плачешь?
— Счастья… Плачут и счастья… Я счастья…
Затихла под его рукой, по-детски шмыгая носиком, и дальше пошла сосредоточенной в своих мыслях и молчаливой.
Захар Евграфович, озадаченный столь быстрой переменой в ее настроении, расспрашивать Луизу не стал, а когда пришли домой, сам раздел ее, уложил в постель и долго сидел рядом, убаюкивая, как малого ребенка, пока она не уснула.
Выйдя из спальни, он направился к себе в кабинет, но по дороге его перехватил приказчик Ефтеев и сообщил, что Агапов просит срочно прийти к нему.
— А ты почему в конторе? — спросил Захар Евграфович молодого приказчика. — Все на улице веселятся…
— Мне Агапов не дозволяет, — потупился Ефтеев, — говорит, если я шею на горке сверну, он как без рук останется…
— Чудит, старый, — Захар Евграфович покачал головой. — Дуй на горку, только шею не сверни.
Ефтеев исчез, как растаял.
Захар Евграфович усмехнулся ему вслед и пошел в контору к Агапову, заранее приготовившись, что ничего доброго старик ему не скажет — не баловал он в последнее время хозяина хорошими новостями.
Так оно и оказалось.
Агапов сидел на своей коляске у стола, на столе перед ним стояла большая тарелка с высокой стопой блинов, в стеклянных вазочках — мед и варенье. Старик снял верхний блин со стопы, обмакнул в мед и с умильной улыбочкой, ехидничая, протянул Луканину:
— Слатенького не желаете, Захар Евграфович? Скушайте, сделайте одолженьице Коле-милому, старался человек. Да и новость мою, которую скажу, заодно зажуете; неважная новостишка, никуда не годная…
— Говори! — Захар Евграфович нахмурился. Не любил он, когда старик начинал ломать комедию.
— Говорю, — посерьезнел Агапов и положил свернутый блин с медом прямо на стол, — вчера в участке Савелий помер, тот мужичок, которого Цезарь из-за кряжа посылал. Кашки пожевал и преставился. Чуешь? А теперь дальше слушай. Два дня назад Окороков из Белоярска уехал, сказал, что по служебной надобности в губернию вызывают. Вот и получается: хозяин из дома, мыши — в пляс. А теперь соображай: Савелия на тот свет отправили, нашему сидельцу кто-то выдергу в окно просунул, Данилу умыкнули, никаких следов нету, исправник по начальству ездит, а может, в город веселиться отправился… Руки-то у Цезаря длинные оказались, тянется он ими к нам. А ты, Захар Евграфович, взял да и выложил Окорокову все карты, еще и слово дал, что без исправникова разрешения даже чихать не будешь. Хоть бы со мной посоветовался. Теперь картина такая: сидим и ждем, когда очередную пакость нам сотворят. Самим надо за дело браться! Самим! Не верю я нашему исправнику, хоть зарежь меня! Не верю! Намедни с Дубовыми встречался, закинул удочку, и они кивнули: если надежные людишки потребуются — предоставят. Я все сказал, Захар Евграфович. Какое твое решенье будет?
Прав был Агапов, будто затаенные мысли читал. Пожалел уже Захар Евграфович, что доверился Окорокову, отдал ему чертеж и бумажные копии; одну, правда, себе оставил. А еще дал честное слово исправнику, что без совета с ним ничего предпринимать не будет. Сидел, ждал. Окороков больше не появился. Зато в участке помер Савелий, и помер, надо полагать, не своей смертью. И еще точила неугомонным червячком одна тревожная мысль: кто Перегудову выдергу в окно просунул? Получается, что человек Цезаря совсем рядом, под носом, находится…