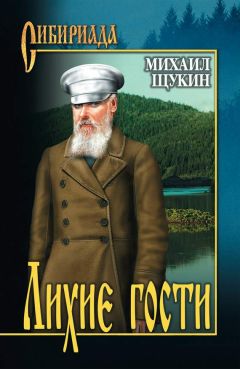Прав был Агапов, будто затаенные мысли читал. Пожалел уже Захар Евграфович, что доверился Окорокову, отдал ему чертеж и бумажные копии; одну, правда, себе оставил. А еще дал честное слово исправнику, что без совета с ним ничего предпринимать не будет. Сидел, ждал. Окороков больше не появился. Зато в участке помер Савелий, и помер, надо полагать, не своей смертью. И еще точила неугомонным червячком одна тревожная мысль: кто Перегудову выдергу в окно просунул? Получается, что человек Цезаря совсем рядом, под носом, находится…
— Покумекай, покумекай, — не дождавшись ответа, Агапов снова протянул свернутый блин Луканину. — А блинчик-то скушай, знатный блинчик!
Захар Евграфович сердито мотнул головой и вышел из каморки, не сказав ни слова.
Да и не знал он, если руку на сердце положить и честно признаться, что ему следовало говорить.
В кабинете достал бумажную копию чертежа, расстелил ее на столе и велел Екимычу позвать Козелло-Зелинского, чтобы еще раз посмотреть и точнее уяснить, где все-таки была обозначена эта самая «лазня». Чтоб ей провалиться в тартарары!
Екимыч скоро вернулся, встал у порога и виновато опустил голову:
— Не может он, Захар Евграфович, своими ногами… Если только в охапке принести…
— Кого нести? Куда? — не сразу понял Луканин.
— Ну, этот, Козел… тьфу ты! Пьяный он, до изумления. И Коля-милый у него в пристяжке. Ни тяти, ни мамы — оба в стельку.
Захар Евграфович вспыхнул, как порох от сердитой искры, и выскочил из кабинета. Екимыч, потешно семеня ногами, едва за ним поспевал.
Увидели они, прибежав на кухню, замечательную картину.
За большим столом, за которым обычно обедали луканинские работники, сидели теперь двое — Козелло-Зелинский, Леонид Арнольдович, и Миловидов, Николай Васильевич. На столе красовались те же самые блины, два стакана и наполовину пустая стеклянная четверть. Говорили выпивохи разом, друг друга не слушая. Да что там слушать, они, похоже, в упор и не видели друг друга.
— Настоящее кушанье должно таять во рту! — гремел на всю кухню Коля-милый. — Хорошее кушанье жевать и грызть не требуется! Оно само в человеческое существо проходит, радует его и облагораживает! Человеком делает!
Козелло-Зелинский по-петушиному вздергивал лохматой головенкой, ручки его неугомонно порхали над столом, и тонкие, пронзительно режущие слух вскрики никак не желали уступать громовому голосу Коли-милого:
Так во весь день до зашествия солнца блаженные боги
Все пировали, сердца услаждая на пиршестве общем…
Внезапно он оборвал свою декламацию, сдернул с носа очочки, плюнул на них и, забыв протереть, вновь насадил на прежнее место; вгляделся в пришедших и, оттопырив указательный палец, выкинул правую ручку, вопрошая:
— Сии видения физически существуют, или они бесплотны? Отзовитесь!
Коля-милый, продолжая греметь о настоящем кушанье, повел суровым взглядом, чуть повернув голову, в сторону порога, прервался, а затем хлестнул по столу кулаком и грозно рыкнул:
— А вам, босяки, наслаждение кушаньем недоступно! Брысь отсюда! Водки не нальем, самим мало! Я кому сказал — брысь! Чтоб духу не было!
С Екимычем от такой картины и от таких речей едва не приключилась падучая. Открывал рот, закрывал, но ни единого звука выдавить из себя не мог. Захар Евграфович, раздувая ноздри, уже шагнул к столу, готовый надавать оплеух обоим питухам, но вдруг остановился и неожиданно засмеялся:
— Не-е-т, дружочки, синяками от меня не отделаетесь. Я вам покажу видения, физические и бесплотные! Екимыч, свистни пару ребят. И веревки пусть захватят!
Екимыч, так и не обретя дара речи, задом выпятился из кухни. Вернулся с двумя работниками, которые выслушали хозяина, дружно хохотнули и проворно взялись исполнять порученное дело: два собутыльника со связанными ногами были доставлены в дальний угол конюшни, уложены на жесткие объеди, а сам угол работники быстро и сноровисто заколотили досками.
— Внахлест еще планки прибейте, — самолично проверял работу Захар Евграфович, — чтобы ни одной щелочки не осталось.
Работники и планки прибили. Так плотно и ладно подогнали, что в огороженном углу конюшни установилась кромешная темнота. Ни Козелло-Зелинский, ни Коля-милый ничего этого не видели и не слышали: они безмятежно спали — один громко всхрапывая, а другой тоненько присвистывая носом.
Зато пробуждение их было не безмятежным. Первым очнулся Козелло-Зелинский. Ничего не понимая — где он и что с ним? — заелозил ручками вокруг и наткнулся на чье-то тело, толкнул его, но тело не отозвалось. Попытался вскочить на ноги, но ноги были связаны. Тогда он перевернулся, выставил раскрытую ладонь, но она везде нащупывала сплошную стену. А вокруг была непроницаемая темнота. Густая, вязкая, пугающая до озноба. Остатки хмеля вылетели. В груди вызревал отчаянный крик, но Козелло-Зелинский всеми силами пытался его сдержать. Снова пополз, нашарил безмолвное тело и принялся его трясти. Тело долго не отзывалось на его усилия, наконец хрипло выругалось:
— Отстань, сучье семя! Я… я… Эй, где я?! Ты кто? Где я-а-а?!
Они еще долго орали в темноте, допытываясь друг у друга, кто они такие и в каком месте оказались. Луканинские работники, набившиеся в конюшню, только что по полу не катались, едва сдерживая хохот, стараясь не подать голосов и не нарушить тишину. А Козелло-Зелинский и Коля-Милый, окончательно протрезвев, заревели уже навзрыд. Колотились в стены и в доски, ползали в темноте по объедям в маленьком пространстве и от страха теряли головы. Коле-милому показалось, что они в могиле, и он, надрываясь, заблажил:
— Я живой! Живой! Меня зовут Николай Миловидов! Я не помирал!
— Я тоже не помирал! Я Козелло-Зелинский!
Неизвестно, чем бы закончилась вся эта затея, если бы не вмешалась, прибежав на конюшню, Ксения Евграфовна. Велела отбить доски и выпустить несчастных питухов на свет божий. После выговаривала брату, что шутить таким образом над людьми и наказывать их непозволительно. Но Захар Евграфович, забывший обо всех своих неурядицах, в ответ только хохотал, до слез, и время от времени вскрикивал:
— Я не помирал! Я не помирал!
Масленица на дворе стояла — самое время веселиться!
А вот исправнику Окорокову было не до смеха.
Он горбился над махоньким костерком, грел над шатающимся огнем ладони и настороженно слушал тягучий, тоскливый вой волков. Выли они совсем недалеко, на краю высокого ельника, никак не насмеливаясь выбраться на чистое пространство, тянувшееся до трех старых кедров, под которыми Окороков остановился на ночлег. Возле костерка стояли широкие крестьянские сани с разброшенными на стороны оглоблями, к саням был привязан конь. Он беспокойно дергался от волчьих голосов, прядал ушами, косил широким глазом, в котором отражался зыбкий огонек костра.