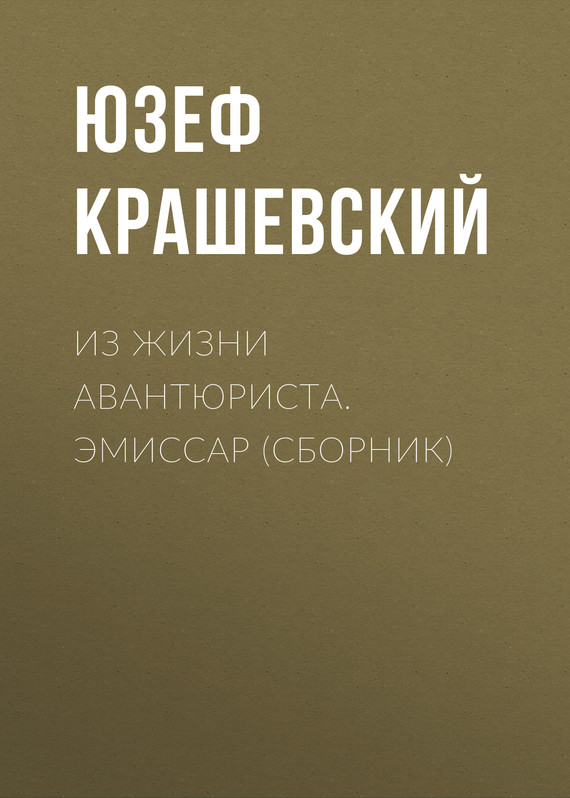который его никогда не оставлял. Несмотря на отвагу, холодный пот обливал ему виски, когда он слушал разговоры слуги и секретаря, рядом спорящих тем милым русским языком, который на нас производит впечатление звона кандалов и скрипа виселицы.* * *
Под различными предлогами справник несколько раз во время игры выходил, даже раз ошибочно отворил дверь, оставленную без ключа, в покой, в котором лежал Павловский… но сразу ушёл. Закрытые ставни не давали ничего разглядеть… но эти поиски какого-то выхода могли быть не случайными. Счастьем, что Заловецкий сидел за картами в то время, и справник его не видел, потому что по бледному лицу догадался бы о чём-нибудь, так, как догадалась панна Целина.
Имела она уже какие-то некоторые предчувствия и подозрения, что тот молодой человек не был тем, за кого себя выдавал… кольнуло её то, что к прибытию справника ослаб… воображение и воспоминания эмиссаров дополнило остальное…
Вся драма рисовалась в её разгорячённой голове и сердце. Сердце это билось, она хотела принимать какое-то участие в этом, беспокоилась, мечтала… Между тем появление в комнате справника, которого из-под одеяла узнал Павловский, добавило ему тревоги, не за себя, но за бумаги. Он был преисполнен решимости выстрелить, а потом покончить с собой, но что было делать с бумагами, которых уничтожить не хотел и не мог?
Шувала мог его узнать, мог догадаться, и, имея самое лёгкое подозрение, прикидываться равнодушным, пока бы не стянул жандармов.
Эта мысль тем сильней вбилась в голову несчастного, что Шувала, выйдя во второй раз, поговорил о чём-то потихоньку с секретарём и выслал его неизвестно куда.
Павел был почти уверен, что не выйдет целым… но бумаги! Для него речь вовсе не шла о его жизни, только об исполнении того, что считал самой святой обязанностью.
Дрожа, он рассчитывал и думал, кому их отдать. Заловецкий был честнейшим человеком, но слабым, терял самообладание как раз в тех случаях, когда человек больше всего в них нуждается. Хозяина знал мало… Глаза Целины мигали перед ним, её имя, её фигура навязчиво ему приходили в голову.
Сердце говорило: ей или никому. Разум отвечал: женщина, предчувствие на чашу весов бросало… Полька и героиня…
– Ей или никому, – повторил Павел, – но как? Где? Каким образом?
Между тем уходили часы, а опасность, казалось, приближается.
Покой, в котором он лежал, имел одну дверь со стороны сеней, другая, запертая на ключ и заставленная комодом, отделяла его от комнатки, предшествуемой комнате тёти и Целины.
Павел начал с того, что заперся со стороны сеней.
Встал потом потихоньку с кровати, подошёл к заставленной двери и приложил к ней ухо… подождал…
Сердце его билось и в висках стучало.
Он услышал открывающуюся дверь из салона и шелест платья… Собрав отвагу, он постучал…
Шаги прекратились… тишина.
Но что если это была тётка?
Легонько постучал во второй раз…
Шелест платья известил, что кто-то приблизился к комоду.
– Панна Целина, – шепнул узник, – ради Бога…
Сначала ему отвечало молчание, потом не знал чему приписать, что шаги отдалились… панна Целина что-то тянула вполголоса. Он объяснил это себе стуком в дверь… от салона… поскольку была не закрыта… а справник, играющий в вист, сидел в шаге. Минутой позже ударила она слегка в дверь с другой стороны.
– Я слушаю, – сказал тихий голос.
– Не спрашивай, пани, не удивляйся, но умоляю… во имя Польши… на полминуты я должен с тобой удивиться, нет свободного времени.
– Отвори дверь… ключ в ней, – ответили потихоньку и снова запели.
Павел не без труда, пытаясь делать как можно меньше шума, поднимаясь, отворил дверь. За комодом стояла бледная панна Целина.
– Ради любви к Польше, возьми, пани, эти бумаги, укрой… или я… вспомню о них… или… найдёшь указание, кому их отдать.
Девушка отважно вытянула руку, румянец покрыл её лицо, она схватила пачку и кивнула только головой, говорить не могла… Дверь тут же закрылась… ключ повернулся, и Павел снова лежал в кровати разгорячённый, уже только один револьвер сжимая в ладони. Постепенно его лицо приняло более спокойное выражение… вздохнул; он с уверенностью знал, что польская девушка скорее умрёт, чем предаст родину.
* * *
В час подали к столу. Справник как-то не думал собираться, но, как для справника, был совсем в неплохом настроении. Расспрашивал о соседях, о дороге, жаловался на тяжкие и неприятные обязанности, и французской речью развлекал панну Целину.
Заловецкий, сильно тем огорчённый, заметил, что достойная панна подсудковна на обеде была чересчур любезна с русским, что даже ему улыбалась и, казалось, забавлялась его лепетом.
Отец также немало этому удивлялся, зная расположение её к русским.
«Но, – думал Заловецкий, – и дьяволы женщин не поймут… женщина женщиной, даже с русским должна кокетничать».
Когда это происходит у стола, а подсудок, не жалея, подливает Шувале вина, несчастный Павел мучается под одеялом, голодный и нетерпеливый. Передача бумаг вернула ему немного спокойствия, но не уступила горячка, сжигающая его с утра. Уже меньше заботясь о себе, Павел услышал идущих к столу, уверился, что справник сидел прикованный в столовой, и, забыв о грозящей опасности, пожелал выпить стакан воды. Его жгла жажда.
Он достаточно знал дом, чтобы пройти незамеченным на кухню. Сначала он немного колебался, но пересилило какое-то юношеское нетерпение, он встал, отворил дверь, выглянул, и смело направился на кухню. Не пробыл там долго, служащий подал ему холодной воды, но этой минуты хватило, чтобы слуга справника, который некогда стоял с дрожкой перед домом полицмейстера, увидел его и узнал. Счастьем, был это человек редкой дискреции и слишком ограниченного ума.
В добрый час после обеда справник с очень умело втиснутой в руку пятидесятирублёвой бумажкой, счастливо, наконец, выехал из Радищева.
Слыша его бричку, отдаляющуюся от крыльца, Павел вздохнул свободней, чувствовал, что его мигрень может пройти и что будет освобождён из заключения, которое его мучило. Через четверть часа после отъезда вошёл Заловецкий с триумфующей миной, но со следами борьбы, которую пережил, над утомлённым выражением.
– Теперь, – сказал он, – можешь встать, одеться, мы скажем, что мигрень прошла и должно быть голоден… Мы накормим тебя, не вызывая никакого подозрения, потому что зачем хозяину знать о тебе?
Павел усмехнулся, думая в духе, что уже кто-то ещё, кроме него, знал в эти минуты о нём и должен был заботиться о его судьбе. Он хотел выйти, чтобы как можно скорей взять бумаги, поблагодарить Цилину, поговорить с ней доверительно, умолять о тайне, объясниться…
Поэтому он быстро начал одеваться.
– И коней прикажи запрягать, – сказал он Заловецкому, – всё-таки безопасней – уехать отсюда.
– А это зачем? – отозвался приятель. – Против ночи по этим полеским дорогам трястись, незнамо куда. Помилосердствуй… уже теперь тебе нигде на свете безопасней быть не может, как тут? Шувала был, сделал ревизию, уехал… Сидишь, как у Бога за печью…