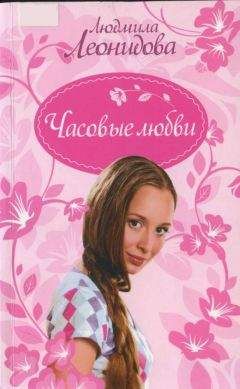– Будьте осторожны.
Что могло угрожать генерал-адъютанту под Подольском, в имении безумного, но все же не бросавшегося на прохожих с ножом приятеля? Бог весть.
– Я привыкаю близко работать с определенными людьми, – пояснил император. – Мне будет без вас неуютно.
Бенкендорф не вполне понимал корни царской привязанности, но обнаруживал в себе ответное, тоскливое и голодное чувство – он хотел служить этому человеку. Больше того – любить его всем сердцем, как любят давно потерянного и вдруг обретенного… у него язык бы не повернулся сказать: отца.
Деревянный настил под колесами кибитки вставал горбылем, как волны на море. Ямщик подрядился за сто двадцать рублей доставить генерал-адъютанта до Подольска в четверо суток. Но не побожился бы, что живым.
– Ты, эта, барин, голову береги. – Хмурый возница похлопывал руками.
Лизавета Андревна набила полный короб еды. Муж улегся в возок, не успев выбросить из-под спины заботливо сунутую подушку, запахнул ноги медвежьей полостью и… понеслась душа в рай. Какие мысли? Сердце бы не вытрясти!
Очнувшись где-то возле Клина, генерал обнаружил, что ямщик сочувственно кивает мальчонке, подсевшему «до другой станции». Пострел развлекался рассказом про «гуси-лебеди». Удивительная народная склонность – по сто раз слушать одно и тоже. Растопырил Иванушка ручки-ножки, и не смогла его баба-яга в печь засунуть. По-ихнему – хитрость. По-нашему – свобода воли. Смирился бы – сгорел.
Александр Христофорович вспомнил, куда едет, и сердце заломило. Он не хотел бывать там, много лет отгонял от себя даже мысль о Дубровицах. Вернее, о рыцарском союзе, в который черт ли его занес?
После войны многие, воспламенясь любовью к родине, жаждали улучшений. Однажды на прогулке государь подозвал к себе генерал-адъютанта, на грех случившегося возле Царскосельского пруда. Бенкендорф как раз надрал пионов в собственном садике и, ожидая Лизхен, прохаживался, как кот по крыше.
– Я слышал, Мишель Орлов зовет вас в Орден русских рыцарей?
Александр Христофорович побелел. Еще не хватало! Вызвать монарший гнев как раз на пороге новой должности – начальника штаба гвардейского корпуса. И женитьбы!
– Не беспокойтесь ни о чем, – милостиво кивнул Ангел. – Благо отечества ближе моему сердцу, чем многие думают. Скажите товарищам, что я не могу примкнуть к ним открыто. Но прошу и меня считать как бы сочленом нового общества.
Получалось, что Бенкендорф еще не дал согласия на приглашение Орлова, а отступить уже не мог. Сам император постучал за него в двери ордена. Да еще столь ласково. Сейчас Александру Христофоровичу вспоминались слова арестованного Мишеля, будто Ангел вталкивал людей в заговор. «Стало быть, он и меня почитал мятежником?» Или… всегда благонамеренный, не потерпевший бы ничего противоправительственного генерал-адъютант мыслился как око государево? Присланное для пригляда? Тогда царь ставил его в двойственное положение, заранее лишал доверия товарищей.
Только теперь Бенкендорф запоздало задумался над такими вещами. А в те дни, почувствовав, что другие «рыцари» говорят ему не все, просто отошел. Чем, без сомнения, вызвал гнев императора. Ангел ничего не сказал. Но Александр Христофорович ощутил холод. Мог ли он знать, что нарушил игру? Что в нем видели шмеля, попавшего в сердцевину закрытого цветка и съевшего пыльцу еще до того, как бутон лопнул?
Это ли определило неуспех «рыцарей»? Орден не двинулся дальше устава. Мишель переписывался с Мамоновым пару лет. Потом бросил, подавшись вместе с Тургеневым в Союз благоденствия. Бенкендорфа туда уже не звали. А прояви он терпение, и Александр получил бы своего человека в грудной клетке мятежа.
Ездок устал от мыслей и снова задремал. Старинный приятель, к которому он ехал, не отличался ни приветливостью, ни гостеприимством. Зато слыл оригиналом самого опасного толка. Сын предпоследнего фаворита Екатерины II – графа Дмитриева-Мамонова, – Матвей Александрович рано осиротел и буквально помешался на собственном происхождении. Он ненавидел мать, несчастную глупенькую фрейлину, покусившуюся на любовника госпожи, и приписывал своему появлению на свет таинственные обстоятельства. Бенкендорф однажды слышал, как в разговоре с Орловым Матвей назвал императора Павла «мой покойный брат». Надо же!
Его карьера началась легко, в двадцать лет Мамонов был уже обер-прокурором Сената. Горячий и дерзкий, он мало с кем ладил, чему способствовала нервная, художественная натура – стихи, акварели. В войну сформировал свой конный полк, угробив почти все состояние. Участвовал в Бородине, под Тарутином, Малоярославцем, погромыхивал золотой саблей, именовался генерал-майором, но… подрался с кем-то из австрийских союзников, к чему государь бывал очень щепетилен. Полк раскассировали, самого отдали в штаб кавалерийского корпуса. Обычная история. Кто не хлебал лаптем царской благодарности?
Другой бы смолчал. Подавился самолюбием. Но Мамонов закусил удила. Подал в отставку. Совсем как когда-то Воронцов. Мише повезло. И сам кроткий, и жена не дала душе закрыться в скорлупу. Нашел дело. Вернее, выпросил. Оно одно держит человека в вертикальном положении. А Матвей не смог.
Ушел от мира. Уполз в берлогу зализывать раны. Да так и остался, позволив обиде взять над собой верх. Орлов говорил, что граф Мамонов боится показываться на люди. Что-то в нем сломалось. «Рыцари» для него не игра, а месть. Чужих видеть не может. Они вызывают в нем приступы гнева. Мишель жаловался, что с каждым приездом замечает, как рассудок затворника погружается в хаос.
А ведь вопрос о кольце-печатке был не из тех, которые задают сумасшедшим.
* * *
Дубровицы.Вид на имение открылся при переезде через Пахру. Ямщик перекрестился на церковь дивной красоты – точно белая свеча в пламени закатного солнца.
– Вона! Диво басурманское.
– Не нравится?
– Для чего? Пригожая. Тока не наша.
Храм действительно выглядел странновато. Четыре вскругленных предела из ограненного камня, а над ними высокая башня под золотой короной вместо купола. Богатейшая резьба и фигуры апостолов придавали ему облик римской базилики.
Желтый дом с белой колоннадой и львами у крыльца помещался на возвышении. От него к готическим воротам с черной чугунной решеткой спускались цветники. Мужики возили на двор дрова. От реки сновали прачки с корзинами белья. Кухня, расположенная во флигеле, топилась, выпуская в небо струйки дыма, пронзительно-сизые в предвечернем воздухе. Даже оживленная присутствием человека, эта картина почему-то показалась Бенкендорфу грустной. Мысли о хозяине здешних мест навевали меланхолию.
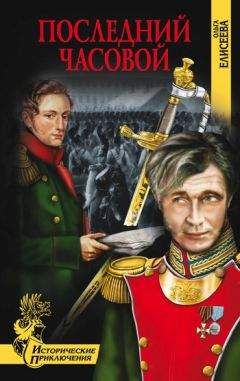
![Аллэин Флаер - Веревки и цепи. Часть первая - Веревки. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)