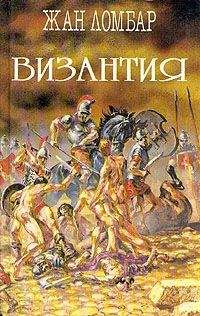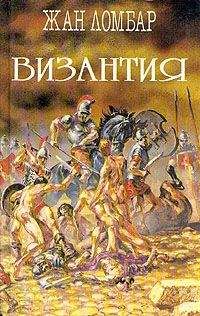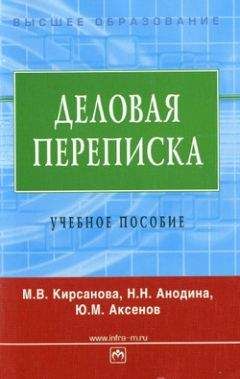Он немного помолчал и продолжил:
– Я блуждаю в этой части города, которую не знаю, в поисках Геэля, жилище которого тебе, наверное, известно.
– Нет, – ответил сдавленным голосом Амон.
Он тоже помолчал и прибавил:
– Я знавал когда-то Геэля и видел его несколько раз, но с тех пор, как Иефунна заманила меня в свою злую семью, я не мог ни с кем разговаривать. Она фактически, заперла меня и следила за мной, как погонщик за своим ослом. Промотав мое состояние, она выбросила меня на улицу, а здесь для меня, как и для тебя, все чужое. Но это не важно. Я буду спрашивать у хозяев еще открытых лавок, не знают ли они, где дом Геэля; без сомнения, они его знают.
И дружески, но с большим почтением взяв Мадеха под руку, Амон увлек его в незнакомые районы города, которые восходящая луна заливала ярким фиолетовым светом. На их пути вставали маленькие строения из кирпича и дерева, скрипевшие от загадочных порывов ветра с Тибра, низкие храмики с дверями из темной бронзы, арки развалин, заросшие ползучими растениями, фонтаны, изливавшие струи в бассейны, перекрестки, освещенные коптящими лампами, от которых тяжело стелился в воздухе широкий дым, мрачные переулки, скрещивающиеся на всем протяжении от Яникула до Ватикана. Прохожие бесшумно двигались, не отвечая Амону и Мадеху; иногда они издали оборачивались, приподнявшись на цыпочки, в разметавшихся тогах, похожие на каких-то призрачных ибисов. Изредка тишину ночи смущали свистки, и грубые голоса, голоса людей с Дуная или из Киренаики, выкрикивали непонятные слова. Они шли вперед, выспрашивая прохожих, громко произнося имя Геэля у дверей закрывающихся лавок, блуждая в Транстеверине, точно в бесконечных катакомбах.
Из одной таверны кто-то вышел и ответил им после многочисленных приветствий:
– Геэль? Да, я знаю этого человека, он – горшечник, как вы и говорите. Вы не ошиблись: Геэль! Но я не знаю, где он живет.
И затем исчез вместе с желтым кругом фонаря, подвешенного к его поясу. Мадех приходил в отчаяние.
– Мы никогда не найдем Геэля, никогда!
Они повернули обратно, обходя Яникул, по направлению к Тибру, широко освещенному восходящей луной. Какой-то человек остановился на их зов:
– Геэль? Да, Геэль! Это горшечник, и его жилище я найду с закрытыми глазами. Кордула мне часто говорила о нем.
Амон и Мадех присоединились к нему; человек повел их по другим переулкам, в которых лавки закрылись на ночь, и светильники на перекрестках гасли с дымным мерцаньем. Слышался только звук деревянных сандалий на грязной мостовой и быстрый бег огромных крыс, выскакивавших из неведомых отверстий, и эти звуки прерывались только резким лаем собак, которые точно плакали протяжно. Человек рассказывал им странные истории, например, про статую дакийского Бога, похищенную из храма на краю света жрецами с крыльями летучей мыши, – он от них бежал на двенадцати весельном судне, управляемом матросами с кожей, желтой, как чистая медь; или же другую историю про слона, пришедшего в Рим из стран, лежащих за Евфратом, и в течение всего этого долгого пути умудрившегося расспрашивать дорогу у встречных караванов. Этот слон построил себе плот, чтобы переплывать через реки, и очень ловко нес на своей спине припасы, заготовленные на много дней. Он, Скебахус, по профессии торговец соленой свининой, сам его видел и слышал; он клялся в том, что ничто не может быть достовернее его рассказа. И Скебахус прибавил:
– Вы похожи немного на этого слона, а я на путешественника, у которого он спрашивал дорогу. И все, что нужно, вы узнаете от меня, Скебахуса, который знает Геэля, потому что часто продает ему соленую свинину.
Полночь близилась. Египтянину и вольноотпущеннику казалось, что в смутном полусвете они узнали переулки, по которым проходили.
Тогда Скебахус воскликнул:
– Я, кажется, ошибся. Дом Геэля на другой стороне; я заключаю это по направлению ветра.
Он послюнил палец, поднял его над головой и вдруг побежал в конец улицы. Потом вернулся и сказал:
– Да, я чувствую Тибр там, и на этой стороне мы найдем Геэля.
Они следовали за ним, не слушая больше его необыкновенных рассказов; Мадех думал о сестре Атиллия и о примицерии, а Амон – об Иефунне.
Он познакомился с этой Иефунной на Аппиевой дороге; у нее был красивый разрез глаз, кротких, как у газели; ее семья, из Самарии, исповедовала еврейскую религию. Однажды вечером, ускользнув от поэта Зописка и христианина Атты, он задумал вернуться в Александрию, но Иефунна встретила его и бросилась к нему на шею.
– Я мечтала о тебе, о мой возлюбленный! – сказала она ему. – Мои родные откроют тебе дверь, и ты станешь наш, если пожелаешь. Я буду тебя любить и окружу тебя заботами и ласками.
Он последовал за ней, чувствуя большую симпатию к этой еврейке, такой свободной в общении, но которая, однако, отдалась ему только много времени спустя. А сначала ему дали хорошую комнату в Транстеверинском районе Рима, у отца Иефунны; он обедал с многочисленной семьей, состоявшей из родителей Иефуннэ, очень сварливых, ее двоюродного брата, длинного и худого еврея, страдавшего пороком Онана, и младших братьев Иефунны, отдававшихся противоестественным страстям. Понемногу Иефунна, постоянно следившая за Амоном, стала запрещать ему выходить за пределы еврейского дома. Египтянин, очень счастливый вниманием девушки, не думал о своем состоянии, которое он привез с собой в ящиках из нильского дерева и которое постепенно уплывало оттуда. Потом, в один прекрасный майский день, она отдалась ему почти на глазах отца: Амон женился бы на ней, если бы тот потребовал. Но ни Иефуннэ, ни тем более Иефунна не требовали заключения брачного союза, как оказалось для того, чтобы удобнее было выбросить Амона на улицу в тот день, когда он обеднеет. И это, наконец, случилось.
У него нет больше ничего!
Тогда для Амона наступила ужасная жизнь, полная лишений и унижений. Часто Иефунна обделял его в еде, Иефунна стала отказывать ему в ласках, ее братья били его, ее родители, обращаясь с ним, как с рабом, заставляли его мыть пол, чистить посуду и носить воду; перевели его в глубь темной комнаты, полной крыс и скорпионов. Александриец любил Иефунну и не мог лишить себя возможности видеть ее, чувствовать ее близость, в душе томясь желанием ее тела и только медленно догадываясь о причинах злобного к нему отношения этой семьи, которая, пользуясь его слабостью, отняла у него его состояние, трудолюбиво приобретенное торговлей чечевицей в Египте, – увы! таком далеком, что он наверно никогда туда не вернется.
А однажды Иефунна сказала ему:
– Уходи, собака, уходи, александрийский осел! Я тебя никогда не любила. Ты беден, стар, некрасив и ни на что нам не нужен.