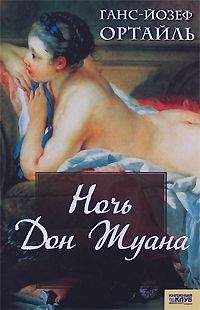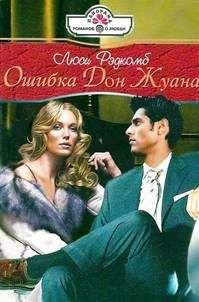Нужно идти дальше, наверх, к монастырю. Всего несколько огромных шагов понадобилось, чтобы позади остались фруктовые сады и поля. Паоло бежал, задыхаясь, словно за ним гнались черти. Сегодня в театре репетировали праздник в замке — сцену, в которой Дон Жуан преследует Церлину. И вдруг все заговорили о том, что эта сцена напомнила им ночь во дворце графа Пахты. Казалось, что опера отражала жизнь или жизнь отражала оперу. Этого уже нельзя было понять. Игра на сцене сбила всех с толку. То и дело синьора Джакомо просили помочь, как будто все актеры разом забыли свои роли. Казанова посоветовал вспомнить его прием во дворце, и актеры попробовали сыграть этот прием на сцене. Получилось так реалистично, что в конце концов даже Гвардазони перестал вмешиваться.
«La ci darem…» — синьор Джакомо заново репетировал и этот отрывок. Луиджи Делал успехи в актерском мастерстве и даже научился непринужденно двигаться на сцене. А вот синьора Бондини, игравшая роль Церлины, не дотягивала до Иоанны. В любом случае, так думали все и то и дело шептались о том, что Иоанна сыграла бы эту роль лучше.
Забравшись на самый верх, Паоло взглянул вниз, на город. Внизу Влтава делала поворот, и город уютно притаился в изгибе русла. Паоло хотелось заколдовать своей игрой дома и людей, да что там — весь уснувший город. Он снова поднес валторну к губам и заиграл. Звуки должны были разлететься вдаль и, как жемчуг, рассыпаться по крышам башен, скатиться к центру города и снова вернуться к нему. Пусть город съежится под этой тонко сплетенной паутиной.
Однако звуки снова сжимались. Мелодия не взмывала в небо и не пускалась в пляс. Паоло был готов сдаться, ведь музыка была истинным и мощным колдовством. По силе ее можно сравнить разве что с любовью. Обеих — и музыку, и любовь — нельзя понять разумом. Но так как многие старались ее описать, эти попытки привлекали все новых приверженцев. Каждый пытался чего-то достичь на этом поприще. Паоло умел изъясняться с помощью валторны, однако до слов ему не было никакого дела. Слова не сочетались с музыкой, если не становились ею. Например, слова «La ci darem…» похожи на бессмысленное бормотание. Они подстраивались к музыке, а затем полностью растворялись в ней.
Паоло попробует еще раз, под Градчанами. Он побежал так быстро, что на спине выступил пот. Ветер продувал его одежду, а внизу, как назло, зашумела Влтава. Как пусто там, наверху, нет ни души!
Паоло присел на лестницу и перевел дух. Затем в последний раз поднес валторну к губам. Наконец-то, наконец-то стало получаться! Звуки медленно поднимались в ночное небо, выстраивались в длинный, бесконечный ряд и пускались в пляс вокруг внушительного здания прямо над головой Паоло, где все еще горели свечи.
Это была женская обитель. В этот час Анна Мария, молодая графиня Пахта, опустилась на колени на полу своей кельи, чтобы помолиться. Но вдруг она оборвала молитву и прислушалась к музыке. Когда мелодия вновь зазвучала с самого начала й стала настойчивее, как будто хотела завладеть всем вокруг, графиня закрыла глаза. Ей хотелось, чтобы это, наконец, свершилось…
Времени оставалось все меньше, и рано утром Казанова уже спешил в театр. Он сразу же поднимался на сцену. Снимал шляпу с белыми перьями, сбрасывал белый плащ и, потирая руки, принимался за работу. Почти все время он находился в театре, чтобы не упустить ничего из того, что происходило на сцене.
Казанова должен был знать обо всех деталях спектакля, поэтому около девяти часов из дворца приносили завтрак прямо в театр. Но Казанова не любил завтракать один. Слуги графа Пахты накрывали стол для всей театральной труппы. Паоло стал почти что управляющим, и вскоре круг его обязанностей значительно расширился, потому что завтрак за общим столом натолкнул Казанову на мысль отныне всегда есть только в театре, чтобы актеры целый день были рядом с ним и не уходили надолго.
Все нужно было изменить. Абсолютно все. У Казановы была уйма новых идей, которые рождались словно из воздуха во время так всем полюбившейся совместной трапезы. Декорации по его просьбе дополняли новыми элементами, переделывали, а то и вовсе убирали. Казанова хотел, чтобы на сцене ожили пражские улочки и площади. Вместо сельских пейзажей появились картины городской жизни. И вопреки замыслу да Понте, который вывел на сцену крестьян, улицы заполнили пражские молочницы и сапожники, трубочисты и кровельщики. В магазинчиках по обе стороны улицы умельцы продавали сделанные своими руками парики и перчатки, а на широких площадях предлагали свои услуги точильщики и гончары.
Казанова не помиловал даже замок дона Джованни. Здесь появились зеркала, светильники и стулья из дворца графа Пахты. Только Казанова решал теперь, как должны выглядеть комнаты, и поэтому от старых украшений не осталось и следа. Тяжелую, мрачную мебель убрали, стены выкрасили в яркие, веселые цвета, а потолки украсили изображениями влюбленных парочек в разнообразных позах, которые все-таки еще можно было назвать приличными.
Во время пира певцы должны были пользоваться бокалами из дорогого богемского хрусталя и серебряными столовыми приборами. Фарфор был только из Мейсена. В театре такой роскоши не было, и поэтому этот реквизит тоже пришлось позаимствовать во дворце. Спустя какое-то время по дороге от дворца к театру начали неустанно сновать люди, подобно трудолюбивым муравьишкам носившие то туда, то обратно всякую всячину. А Паоло, как истинный церемониймейстер, управлял этим действом.
Казанова беседовал со всеми исполнителями. Он прогуливался с ними по театру, то и дело приглашал их по очереди в ложу поговорить с глазу на глаз, будто не хотел, чтобы кто-нибудь помешал беседе. Многие догадывались, что он им льстит, но, тем не менее, охотно отдавали дань этому ритуалу, словно откровенная лесть, которой не позволял себе Лоренцо да Понте, доставляла им удовольствие.
Дольше всех Казанова беседовал с Луиджи Басси. Он объяснял певцу, что успех оперы зависит прежде всего от него. Казанова хвалил его голос и подсказывал, как лучше вести себя с Церлиной или донной Эльвирой. Синьор Джакомо часто стоял на сцене рядом с Луиджи, исправлял его осанку, показывал некоторые движения. Например, как между делом можно «случайно» коснуться юбки возлюбленной, чтобы вызвать у нее легкий испуг.
С Терезой Сапорити синьор Джакомо разговаривал за обеденным столом. Он откровенно льстил ей, расхваливая ее красоту и манеру себя держать, называл ее выход в начале оперы ключевой сценой спектакля. Казанова описывал роль донны Анны как образ непоколебимой, страстной и прежде всего бесстрашной женщины, затмевающей остальные женские образы.