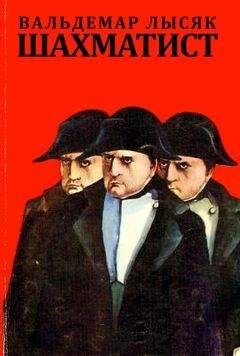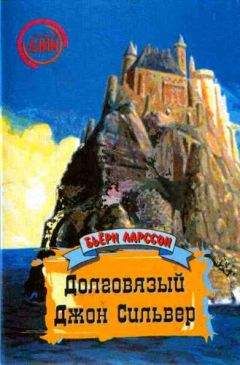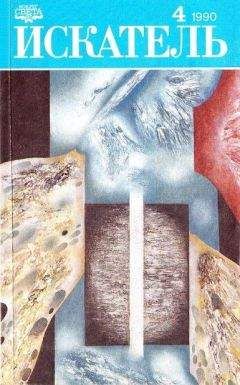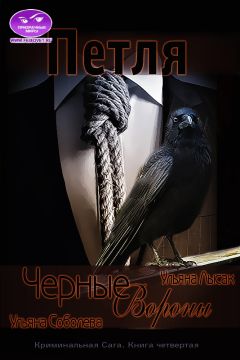— Насколько я помню, Джозеф, ты говорил, будто идешь со мной не ради денег, но ради меня, поскольку всей душой мне продался.
— Я сказал так, сэр, но моя память чуточку лучше, ведь я помню, как сказал точно. Тогда я сказал, что продался вам словно грешник дьяволу. И хотя все это тогда были только слова, потом я понял, что следует их понимать дословно.
— Даже так? — усмехнулся Батхерст. — Выходит, я дьявол?
— Для меня — так, сэр, и для всех поляков. Вы хотите уничтожить единственного человека, который может вернуть нам свободу и независимость, человека, который желает это сделать! Я узнал об этом от чиновников из Познани, что были здесь в Шамотулах неделю назад. Они рассказывали про воззвание к народу[266].
— Про какое еще воззвание?
— Про воззвание, подписанное генералами Домбровским и Выбицким[267]. В нем говорится, что Наполеон воскрешает Польшу! Когда-то я ненавидел Бонапарта, поскольку он погубил наши легионы за океаном, но сейчас… Как бы я мог его ненавидеть и желать ему зла? Я стал бы изменником, и на мать бы наплевал, ведь в Польше, сэр, родину матерью называют! И я не позволю вам коснуться его!
— Означает ли это, что ты желаешь меня убить, приятель?
— Нет, сэр. Я думал об этом, но не смогу, никак не смогу. Я не обманывал, когда говорил во Франкфурте, что испытываю к вам что-то такое, чего сам не понимаю. Я и сейчас это чувствую — восхищение и ненависть, все одновременно. Я вас только оглушу, суну кляп в рот и свяжу. В пять придет Мануэль и вас освободят, сэр. Но тогда немедленно удирайте, сэр, потому что я уже буду в Познани и ровно в шесть, обещаю, что не раньше, обо всем сообщу французам. Я не позволю вам коснуться императора, сэр, ведь это так же, как будто я отдал бы свою честь за кучку серебряников.
— То, что ты делаешь сейчас, это тоже измена! Ведь ты давал присягу!
— Только не поднимайте шум, сэр! Я знаю, что таким образом вы хотите позвать на помощь, но если кто-нибудь здесь появится, я начну стрелять, и вы погибнете первым. Так что будет лучше, если наша беседа будет тихой. Впрочем, у меня уже нет времени. Я помню, сэр, о той клятве, но иногда необходимо совершить малое предательство, чтобы спастись от большего. К счастью, у меня достаточно хорошая память, чтобы помнить о том, о чем мне помнить нужно прежде всего, как поляку!
Батхерст, наклонившись вперед и держа руки на рукояти трости, глянул ему в глаза и тихо произнес:
— Плохая у тебя память, приятель. Тогда, во Франкфурте, я сказал тебе, что мой наркотик — это месть.
— Я не боюсь вашей мести, сэр. Вам еще повезет, если вы вообще сможете добраться до Лондона. А теперь повернитесь! Ну! Только не заставляйте, чтобы я…
— Плохая все-таки память у тебя, приятель! — с сожалением в голосе повторил Батхерст. — Ты забыл еще кое о чем!
И в тот самый момент, когда поляк находился от него в паре шагов, англичанин резким движением провернул рукоять и нажал на нее. Раздался сухой треск, и Батхерст, вместо того, чтобы увидеть Юзефа с пулей в животе, почувствовал адскую боль. Заряд разорвал рукоятку трости и поранил ему ладонь. Он глянул на свои окровавленные пальцы, и в тот же миг получил по голове рукоятью револьвера.
Очнулся он, благодаря воде, которую плеснули ему в лицо. Над ним стоял Сий. Батхерст глубоко вздохнул и попытался встать. Метис склонился и поднял его с земли.
Ладонь сильно кровоточила. Бенджамен осмотрелся — не было ни поляка, ни его коня. «Конец!» — с отчаянием подумал англичанин. «Нужно уходить!» Здоровой рукой он потянулся к часам и онемел: без двадцати четыре, то есть, все случилось только что, сам он был без сознания пару минут. Может поляка еще удастся догнать, нужно разбудить Тома!..
Он метнулся к выходу и споткнулся о лежащее на земле тело. Юзеф лежал навзничь, беспомощно раскинув руки. Рядом, беспокойно вздрагивая, стоял конь. В темноте глаза трупа отсвечивали вывороченными белками. Батхерст почувствовал, что покрылся гусиной кожей. Он присел и закрыл убитому глаза, а потом, не отводя ладони от лица, провел ею по еще теплой щеке: медленно, осторожно, как бы опасаясь оскорбить.
— Прощай, приятель, — шепнул он с какой-то невысказанной нежностью, — нас обоих подвела память. Мы забыли про Сия.
Он разбудил своих коммандос раньше, чем намеревался; в нескольких словах описал им все случившееся и приказал похоронить поляка. Закопали его возле стены, под деревом, на котором Том вырезал небольшой крест. Было еще темно, хотя небо уже серело, теряя свою сочную синеву.
Разошлись молча, а Батхерст остался под деревом, мрачный и погруженный в собственные мысли. Повернувшись, он увидал Хейтера, стоящего с тростью в руках.
— Это не моя вина, сэр! Отверстие в стволе было забито землей.
— Знаю, Брайан, это я виноват. У меня забрали трость на несколько дней, а после этого я лишь проверил, есть ли патрон в камере, а в ствол не заглянул. Отдай.
В половине пятого Батхерст и «приятель Морис» одели священника в мундир полковника конных егерей гвардии и подгримировали лицо. К шести часам Мирелю и его людям было приказано перебраться в повозки и не высовывать из них носа, комнаты в большой башне были убраны, все заняли заранее определенные места. Лошадей под надзором Хуана собрали за поворотом стены, со стороны небольшого озерца. Теперь оставалось лишь ждать.
В четверть девятого они увидали конный эскорт, подъезжающий со стороны города. Батхерст узнал филадельфа, который контактировал с ним. Во главе гарцевал мужчина в сером плаще и треуголке, известной от Атлантического океана до Урала.
Всадники остановили лошадей у ворот. Через мгновение на лестнице раздались шаги и голос, доходящий из подвала:
— Именно здесь, сир, держали эту женщину в железной маске.
А несколькими минутами позже Наполеон уже стоял перед автоматическим шахматистом барона фон Кемпелена.
— Откуда он здесь взялся? — спросил Бонапарт. — Ведь только что он находился в Берлине!
Бенджамен протиснулся сквозь группу военных, окружавших монарха.
— Было изготовлено три экземпляра, сир. Один сгорел, другой Кемпелен оставил себе, а третий получила от него в подарок Мария-Терезия[268]. Это как раз тот, третий.
Бонапарт просверлил его взглядом и спросил:
— А вы кто такой?
— Купец, сир, и понемногу опекаю цирковую труппу. Короче говоря, я деловой человек. «Турок» же служит нам в качестве реквизита.
— Каким образом ты его приобрел?
— Купил у бегущего в Кенигсберг прусского генерала, сир.
Наполеон кивнул, Батхерст уже перестал его интересовать. Он подошел к ящику автомата и положил руку на столешницу с шахматной доской.