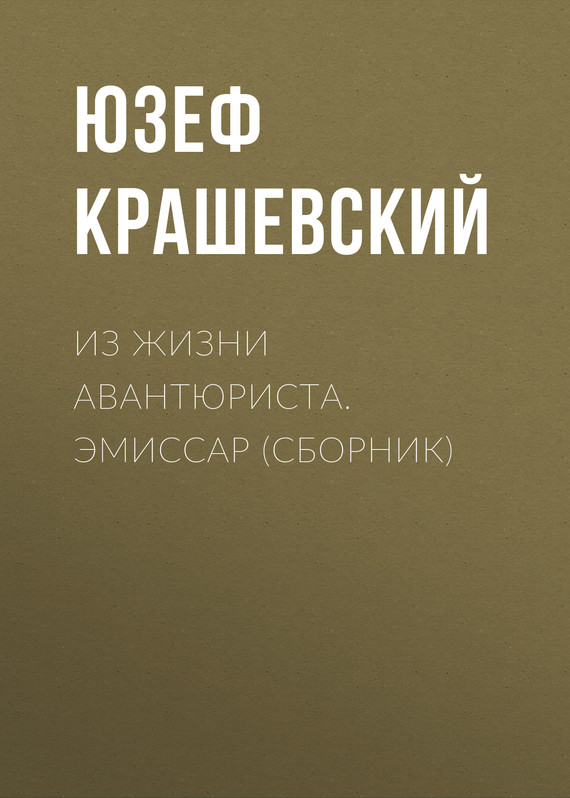остолбенелый с заломанными руками.
– Пусть его ясные молнии сотрясут! – крикнул он. – Солдаты! В сад! Перетрясти строения… Я с секретарём сделаю ревизию в доме.
– А! Делай ревизию… делай! – сказал разгневанный подсудок. – Пусть и тебя молнии сотрясут!
Молчащий, явно отчаявшийся из-за этого открытого окна, больше из обязанности, чем из надежды найти чего-нибудь, Шувала хлопнул дверью от покоя женщин.
Два крика, тёти и панны Целины, отвечали на это нападение.
Полковник устыдился, бросил взгляд, заметил женщин в постелях, убедился, что дверей в дальние комнаты нет и, бормоча, вернулся.
Обошли так весь дом… приказал Шувала проводить в погреб… и вернулся бледный, разъярённый и злой…
– Этих панов, – сказал он, – прежде чем дела прояснятся, арестую всех… поедете со мной… произведём следствие… Если пленник уйдёт, кто за это будет наказан?
Никто ему на это ничего не отвечал.
– Пана Заловецкого связать, – добавил Шувала, – он сюда его привёз, знал, что делал и кто он был… крадёт ли кто или прячет, вина одна. Сибирь ждёт вас.
Заловецкий, бледный, как труп, наполовину обморочный, стоял с опущенной головой.
Справник несколько часов назад довольно вежливый, как для справника, теперь стал почти диким…
Он напивался страхом своих пленников, своей силой, и преследовал, упрекая. Теперь он тут был паном и властелином.
* * *
Ежели вам доведётся измерять разум человека, его способности, знания… измеряйте, чем вам нравиться, но характер и благородство ничем оценить не дают себя, одним только обхождением с более несчастными и более слабыми. Жестокость, осквернение, злоупотребление силой в отношении слабых и унижение перед более сильными есть лучшим признаком никчёмного человека.
Таким показал себя господин полковник Шувала в Радищеве, а злоба его возросла ещё от мысли, что снова этот ненавистный враг сумел улизнуть. Известно, что при Николае, более того, и сегодня, поимка и уличение в чём-то дома беглеца, эмиссара, эмигранта, человека подозрительного, накладывают такую вину на укрывающих его, какой бы подлежал сам преступник. Не достаточно этого, московский закон не освобождает никого от обязанности донесения правительству и выдачи политического преступника, хотя бы он был отцом, сыном, мужем, братом. Отец, который не выдал сына, будет наказан за него, ребёнок, что не предаст родителей, считается виновным. Где такие принципы в публичном законе записал пугающий деспотизм, там нельзя удивляться повсеместной деморализации страны и всем подлостям, какие люди допускают; там не существует семья, не оправдывает любовь, не связывает кровь и благодарность. Царь над всем! Никогда в христианском народе не продвинули дальше запрещение Христовой науки… а эти принципы найдёте в катехизисе о почитании императора всея Руси.
Полковник, который был воспитанником Николая, жил этими принципами, поэтому для него Радищев, уличённый в политическом преступлении, уже был приговорённым, а жители его… с этой минуты считались тюремными узниками.
Следовательно, он был паном на конфискованном уже в мысли имении… рассматривался только, что перед конфискацией должен был забрать себе.
Он лежал на канапе, не гладя даже на стоящих перед ним наполовину одетых панов подсудка, Заловецкого и Рабчинского. Призванный секретарь стоял, дожидаясь приказа. Через мгновение справник произнёс:
– Сперва Заловецкого связанного возьмёшь и отвезёшь в тюрьму… понимаешь… Коней и бричку забрать отсюда… двоих человек из деревни на стражу. В дороге чтобы ни с кем не разговаривал. Отобрать у него деньги… обходиться как можно суровей… Через полчаса чтобы был в дороге. Ежели вознамерится убегать, стреляй ему в голову.
Заловецкий стоял бледный и дрожащий.
– Но пане полковник… – сказал он слабым голосом.
– Пошёл прочь! Не болтать ничего, наговоришься перед комиссией.
Секретарь и жандарм, стоящие у двери, схватили его и выпихнули за порог, сами следуя за ним.
Шувала поглядел на Рабчинского, который молчал.
– Жандарма! – крикнул он. – Другой на отдельной бричке повезёт этого господина… часом позже. Я сам поеду с хозяином. Где ваши бумаги? – спросил он.
– Какие бумаги? – отозвался спокойно подсудок.
– Все, какие имеешь.
– Ищи их и бери, – буркнул старик, падая на стул, – у меня бумаг, кроме экономических и правовых, нет.
– Посмотрим.
Рабчинского потянули в другую сторону. В салоне остался Шувала, развалившийся на канапе, и погружённый в мысли подсудок, который не говорил ни слова. Справник спал, но, казалось, постепенно приходил немного в себя. Испуганные женщины тем временем оделись. Слуги донесли Целине, что одних вывезли, других должны были вывезти, что отец также, увезённый, должен был ехать в Луцк. Бледная, дрожащая, но, не теряя ни отваги, ни самообладания, она вошла в салон.
Справник, заметив её, немного смешался, встал молчащий.
– Пане полковник, ради Бога, – произнесла, не подходя к нему, Целина. – Что случилось? Что происходит? Чем эти паны провинились? Отец мой?
– Ваш отец, те господа, – сказал справник насмешливо, – будто бы ты не знаешь.
– Но я ни о чём не знаю.
Полковник иронично покачал головой.
– У вас в доме был опасный гость, который сбежал… а вы за него искупать будете…
– Но мы его не знали! Не знали, кто был!
– Это покажет следствие, – сказал холодно Шувала.
Целина смотрела на отца, который сидел прибитый и как онемелый.
– В чём же виновен мой отец? Подумайте. Возможно ли у каждого, кто приезжает, спрашивать паспорт? Можно ли по физиономии угадать, у кого что в сердце? Пане полковник, – отозвалась она через минуту, – я доверяю вашему характеру, что отца моего не обвините, ни привлечёте к ответственности.
– Это не от меня зависит, – сказал полковник всё холодней.
– Мой отец… объяснится.
– Посмотрим.
Целина приблизилась к подсудку… глаза их встретились; понял ли он её… неизвестно, но дал знак, чтобы вышла.
Девушка медленно вышла.
– Пане полковник, – произнёс, вставая и приближаясь к нему подсудок – поговорим открыто. Даю вам слово чести, что этого господина не знал, что видел его в первый раз и не знал, кем он был… На что меня, пан, губишь?…
– Вы сами себя губите…
– Что же вам от этого придёт, если меня осудите?
– Что? Себя оправдаю…
– Мне кажется, что за это губить меня тебе не нужно… Ещё раз поговорим по-людски.
Справник искоса поглядел, но не протестовал.
– Тысяча рублей, – шепнул подсудок.
Шувала покачал головой.
– Полторы.
– Я не еврей, чтобы торговаться.
– Что же прикажешь дать?
– Дай три… тогда тебя спасу.
– Нет их наличными.
– Слово чести…
– Сначала полторы, – сказал, вынимая деньги из кармана, подсудок, – полторы через неделю.
Шувала не отвечал ничего, но деньги спрятал в карман.
– Заболей и ложись в кровать, – сказал он, – оставлю тебе только жандарма… а прикажи мне коня дать, я ехать должен.
Подсудок вздохнул… и когда Целина вернулась, вычитала с его лица, что дела обстояли лучше.
Шувала кричал только ещё громче, ругался, спорил для вида с подсудком, который утверждал, что был больным, клял, топал, разгонял людей, и через несколько часов этой комедии оставив жандарма в Радищеве, один ещё ночью со светильником выехал с пленниками в Луцк.
Подсудок умолял его за них, но Шувала ни слова на это не отвечал.
* * *
Это была памятная ночь для жителей Радищева. Справник ещё был на дамбе, когда Целина,