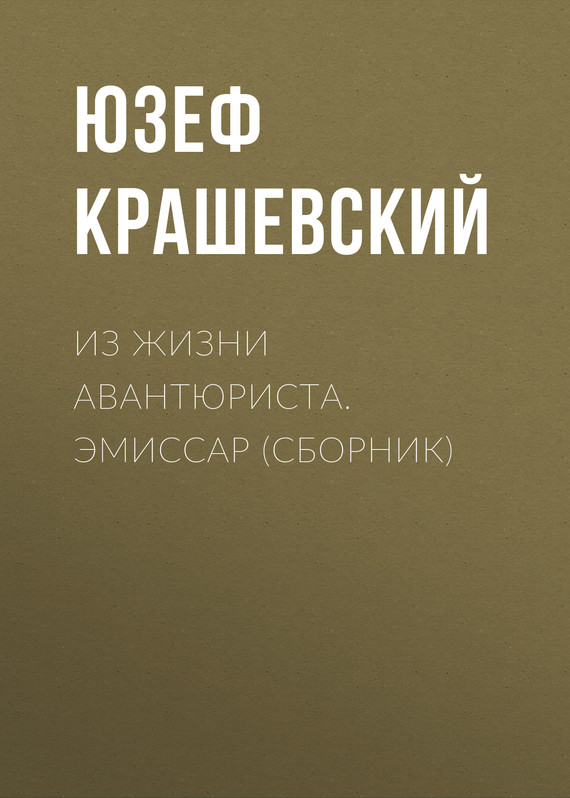очень был уверен, она ли, или какая постройка, так как выглядела слишком жалкой… но всё равно было это людское жилище и в маленьком его оконце уже даже светилось. Люди встали к началу дня. Из трубы поднимался густой чёрный дым.
Среди гигантских сосен стояла деревянная постройка, под соломой, щуплая, окружённая маленьким садиком, а вокруг неё ещё ниже находились хлева и пристройки. Не была это заезжая корчёмка… без сарая и ворот, очевидно, она вся состояла из одного жилого помещения, двух комнаток и сеней для коз и уток. Справник уже искал глазами поселение, кузнеца, но этого вокруг видно не было. Он немного встревожился, не заблудился ли, но в любом случае нужно было хоть расспросить.
Поэтому он постучал в дверь, думая, что закрыта, а по его стуку можно было узнать самого старшего урядника в повете, стучал в маленькую дверочку по-пански, как тот, кто имеет право не просить, но приказать себе отворить. Внутри были крики и шум, кто-то подбежал к двери, и справник узрел перед собой исхудавшего еврея в смертной рубашке, с обнажённой и обвязанной ремешками рукой, с привязанным на голове прибором для молитвы… который смотрел на него, встревоженный.
Он явно хотел прикрикнуть на прибывшего, но увидев среди мрака высокую фигуру и мундир, встревожился и замолчал.
Справник толкнул его, вошёл в избу, и на высоком пороге в низких дверях сильно ударился головой о дверную раму. Это ещё увеличило его гнев.
Корчёмная изба, в печи и камине которой как раз одновременно разожгли огонь, была маленькая, грязная и сверх всяких слов бедная. Стол едва тёсанный, лавки под стенами, кровать, колыбель, коза, разные хозяйственные вещи почти всю её занимали… трудно было в ней повернуться. Две грязные еврейки с горшками в руках и еврей, который ввёл справника, составляли всё население.
Духота и запах лука, грязи, масла, старых кожухов и чеснока… душили.
Справник схватил сперва еврея за воротник.
– Двигай к кузнецу.
Еврей стоял остолбенелый. Редко ему случалось встречаться с урядником, не понимал ни этого обхождения, ни приказа. Он начал кричать, еврейки стали ему разными голосами вторить, дети в колыбелях, проснувшиеся, раскричались так, что какое-то время ничего не было слышно, кроме шума.
Справник достал бы саблю, но, увы, в спешке оставил её в сломанной бричке.
Еврей, остыв, инстинктивно догадался, что особа, которая так смело хватала его, должно быть, имела для этого право и силу; стал покорным.
– Ты знаешь, что я справник? – закричал Шувала. – Я тебя научу. Я тебя в гроб упакую и сгниёшь в нём… Иди за кузнецом…
Подскочила еврейка.
– А! Ясно пане, он не может идти, когда начал Господу Богу молиться, но я иду, бегу.
Полковник плюнул, пожимая плечами. Оглядел избу, не было угла, где бы мог сесть и отдохнуть… но видны были двери в альков, в котором на столе горела свечка.
Полковник вошёл в него.
На топчане с горстью соломы, обёрнутый плащом, отвернувшись лицом к стене, спал какой-то путник… Справник возмутился, что кто-то смел спать, когда ему негде было сесть. Ударил ногой спящего. Сначала не подействовало, путник задвигался только и, казалось, что-то под плащом ищет руками.
Справник воскликнул по-русски:
– Ну, вставай!
На этот приказывающий голос человек, обёрнутый плащом, немного лениво, начал медленно поворачиваться… затем, однако, неожиданно вскочил, раскрыл широкий плащ и, прежде чем полковник имел время прийти в себя и испугаться одновременно, сильной ладонью схватил его за горло.
Шувала при бледном свете сальной свечки только сейчас узнал давно незримые, но хорошо ему памятное лицо и черты Павла Зенчевского и его огненные глаза, уставленные в него.
Эмиссар одной рукой держал его за шею и сжимал, а другую, подняв револьвер, приложил ему к груди.
Полковник хотел убежать, но впустую, более сильная рука держала его железной хваткой, а дуло пистолета касалось мундира… бьющееся сердце его чувствовало… тревога смерти отбирала у него силы. Он не имел оружия… позвал на помощь, но хорошо знал, что евреи ему никакой помощи дать не могут. Действительно, хозяин в смертельной рубашке показался на пороге, но путник крикнул:
– Закрой дверь, а то выстрелю… пусть никто не смеет входить.
И дверь в самом деле молнией закрылась и зловещая тишина смерти воцарилась в корчёмке. Были только слышны приглушённые голоса и гул. Павел всё ещё держал вырывающегося справника и всё сильней душил… лицо полковника посинело, глаза вылезали из орбит.
– Негодный человече, существо недостойное человеческого имени, – воскликнул Павел прерывающимся голосом, – поручи душу, ежели её имеешь… дьяволу, которому служил при жизни… потому что целым и живым отсюда не выйдешь. Преследовал сестру, отравил ей жизнь и привёл её к могиле, издевался над старым, безоружным моим отцом… уничтожил нас, преследуешь меня, покушаешься на мою жизнь, но сам Бог дал тебя безоружного в наказание в эти руки, которые ты так желал заковать… пришла минута правосудия… ты погибнешь!
Говоря это, он метал им, устрашённым, как ребёнком, желая его повалить… Справник оторваться не мог и не смел, вырывался напрасно, слабо, потому что чувствовал, что револьвер, который был направлен на грудь, при малейшем движении мог ему пулю послать в сердце… схватить его рукой не смел, чтобы смерть не ускорить.
В голову ему только пришло, что какой-либо ценой следовало оттянуть борьбу, потому что могли подойти его люди и положение измениться, решил умолять о спасении.
– Павел! – воскликнул он. – Павел… заклинаю… я выполнял и выполняю мой долг, я для него клялся, я не виноват, даруй мне жизнь… отпусти меня. Смилуйся… ничего тебе не угрожает… пойдёшь свободный… не буду преследовать… даруй жизнь.
– Нет, – крикнул Павел, – нет, я знаю тебя, не верю… Если бы меня упустил, будешь других преследовать и мучить, дикий зверь не избавляется от натуры своей, ты для этого создан… Если веришь в Бога, молись… потому что должен умереть. У меня есть шесть выстрелов, а один из них предназначен, чтобы убить тебя и очистить мир от чудовища. Вставай на колени и молись, подлый!
Справник упал на колени… молитва могла его спасти, люди подтянуться.
– Павел, на тени твоей сестры клянусь тебе – оставлю этот край, службу, всё. Что тебе с того придёт, что у меня жизнь отберёшь? Тебя будут потом искать, преследовать, возьмут, схватят… я тебя отпущу… я устрою побег… клянусь… военной честью… Павел, на тени твоего отца…
Но Павел, разъярённый ещё борьбой, отпустить его не хотел, револьвер держал над ним, хоть рука его от гнева и утомления дрожала… Шувала почувствовал, что неприятель смягчается… удвоил мольбы и просьбы.
– Ещё раз, клянусь тебе, выйдешь целым, даруй мне жизнь… Слово солдата… Павел… ты человек.
Павел слушал, презрение нарисовалось на его городом лице; наконец отпустил его, толкнув так, что тот рухнул на