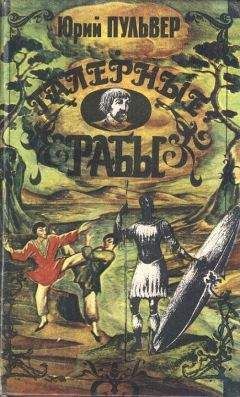А для парня подлинной радостью было то, что купец разрешил ему ходить в баню. Их имелось две: одна роскошная — для хозяев, вторая, поплоше — для наемных слуг. Рабы мылись из хоуза — бассейна во дворе.
Турецкая банька пришлась по душе, хоть мало напоминала родную русскую. Сама каменная, вместо деревянных полок — ложа. Нагревают не воздух каменьями раскаленными, а мрамор изнутри дровяной печью — кое ложе поменьше, кое посильнее. Заворачиваешься в холстину и ложишься на теплый камень, нежишься. Запарился — отойди, водицей сбрызнись, на лавочке посиди, с соседями посудачь о том о сем — и снова пожалуй кейфовать.
Сафонка как впервой добрался до баньки, выбрал самое жаркое место, улегся на спину, закрыл глаза, расслабился — и уснул. Его разбудил часа через полтора испуганный далляк-банщик и потащил к Нури-бею. Тот рассердился:
— Ты что, ума лишился? Разве можно столько париться?
— Хозяин, ты это называешь париться? Да я в вашей баньке хоть весь день пролежу! Приятственная она, спору нет, но тепла настоящего не дает. Вот наша парилка — та щедра на жар!
Сафонка запнулся, не находя нужных слов, чтобы описать всю прелесть русского пара. Заберешься на верхний полок, поддашь водицы с кваском на раскаленные каменья, прохватит тебя до косточек-жилочек жаром нестерпимым, ажник дух захватит. И шевельнуться невозможно — ошпаривает горячий воздух. Ан все равно веничком березовым аль дубовым себя охаживаешь, пока усталость, и сухмянку, и мокроту, и лихоманку из себя не выбьешь. Нажаришься румяно, выскочишь, красный, как вареный рак, из парной, расхлябишь дверь предбанника — и голышом в снег зимой, летом — в бадью с водой, загодя в погребе охлажденной. Взвизгнешь от мгновенного перехода из адской жары в ледовое чистилище, ругнешься от избытка счастья — и опять в сладостное пекло кинешься, на распаренное, пахнущее дерево. И сызнова прутьем младым себя лупишь…
— У вас, хозяин, тоже любо-дорого придумано: можно прогреть любое место на теле, какое пожелаешь. Даже человеку со слабым сердцем путь сюда не заказан, а в нашу парную ему лучше не соваться! Одно еще не как у нас: мужчины и женщины раздельно моются…
— Неужто в Московии вместе? — ужаснулся Нури-бей.
— Ну, чаще всего в разное время выходит. Баньки у нас в каждом почти дворе есть, дак они размеров малых, вся семья сразу не влезет. Потому по обычаю сперва мужики моются, потом бабы. А вот на хуторах, в крупных хозяйствах али при постоялых дворах есть большие бани. Так там все вместе, невзирая на пол…
— Какое бесстыдство, противное человеческому естеству! — вознегодовал Нури-бей.
— Почему противное? — сделал вид, что не понял, Сафонка. — Оченно приятное! Мы с казаками молодыми нарочно ходили в общинные бани девок красных смотреть, дак они тоже туда набегали, — подзадорил хозяина парень.
— Женской красотой нельзя наслаждаться публично, как бегом арабской кобылицы. Прелести одалиски-наложницы должны быть ведомы, помимо господина, лишь кальфе,[139] кизляр-аге да прислужницам гарема, то есть никому за пределами «дверей счастья», женской половины дома. У афганских племен муж вообще видит жену голой лишь два раза в ее жизни: в день свадьбы и когда мертвую обмывают. Даже наслаждаться ею обязан только сидя, в одежде — и при том никак нельзя обнажать места срамные!
— У нас иные нравы. Пригожая баба — услада для глаза… Конечно, никто никого не принуждает. Стесняешься — не ходи в общую баню, мойся отдельно…
— Плохие у вас нравы. Однако — инч Алла! — тебе-то я их исправлю!
«Ученого учить — только портить, а черного кобеля не отмоешь добела», — сказал в ответ Сафонка, но — мысленно. На сем разговор и закончился.
Текли дни — сытные, нескучные. Свободным, однако, себя Сафонка не чувствовал. За пределы двора его не выпускали. Ночевал он в каморке для слуг. Кормили обильно, да однообразно: бобовая похлебка, кусок жареной баранины, сухой чурек. О том, чтобы испробовать знаменитых турецких яств, о коих так много говорили рабы и слуги, не могло быть и речи. Мечта вкусить их осуществилась лишь после Брунк-Байрама — и лучше бы она не осуществлялась.
Праздник Нури-бей провел в столице. Вернувшись утром на следующий день, хозяин, лукаво улыбаясь, направил Сафонку в баню. Тот мылся накануне, ан не возражал: чего ж не погреть косточки лишний разок. В парной его ждал здоровущий турок — личный банщик и костоправ Нури-бея. Уложив парня на подстилку, он вскочил ему на спину, начал топтать ногами, заламывать руки, мять шею, давить на позвоночник. Сафонка понял: Нури-бей сделал ему редкий подарок. Для османов костоправство было тем же, что для русских веник. Несмотря на боль, пугающий хруст позвонков и суставов, ему добровольная мука очень понравилась, он давно уже не получал такого удовольствия, не чувствовал столь расслабляющей истомы.
После бани, одетого в новую турецкую одежду — скромную, без украшений, однако вполне приличную, — Сафонку привели в столовую комнату Нури-бея. Хозяин, облаченный в синий доломан,[140] в белой чалме, удостоверявшей, что ее владелец совершил благое дело — хадж, паломничество в Мекку и Медину, торжественно восседал на миндерах, скрестив ноги, обутые в роскошные, небесного цвета чувяки с загнутыми носами. Низенький широкий столик перед ним был уставлен блюдами с едой. Сафонка не знал ни одного из кушаний, кроме пахлавы (как-то раз она подгорела у повара, и испорченное слоеное печенье скормили слугам, чтоб зря не пропало).
В диковинку для него были многие фрукты и ягоды — виноград, дыни, персики, хурма. Вообще-то на Руси и в те времена знали об этих изысканных плодах, пробовали их и даже лимоны с апельсинами. Однако то могли себе позволить лишь знатные да богатые. А казаку — уроженцу захолустного окраинного Воронежа откуда ж взять такие яства?
Сафонка потянулся к угощению поначалу с опаской, а распробовав, накинулся, как ворон на кровь. Нури-бей, развалившись на подушках, отеческим взором, с теплой хитринкой в глазах следил, как парень расправляется с лакомствами, запивая персиковым шербетом.
— Массаж понравился?
— Очень! — промямлил Сафонка с набитым ртом.
— А еда?
— Того пуще!
— Будешь есть и эти, и многие другие, еще более изысканные лакомства каждый день, когда проникнешься светом ислама. Смотри, про нее изрек Аллах: «Вот книга, которая не возбуждает никаких сомнений», — купец положил на стол огромный Коран в переплете из телячьей кожи, украшенном золотом и серебром. — Оригинал ее начертан на арабском языке на листах-сухур, и свитки эти хранятся на седьмом небе…