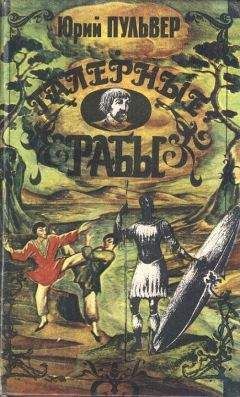— Так ведь придется с христианами воевать?
— Придется… Ладно, иди тогда в войнуки. Им тоже веру не обязательно менять. Они не воюют, служат коневодами или в обозе. Зато их, как и моргалосов, освобождают от налогов и дают право свободно наследовать имущество. Выплатишь мне долг — уйдешь из султанской армии. Как в Коране написано: «Дай неверным отсрочку, оставь их в покое на несколько мгновений».
Задумался Сафонка: не согласиться ли, вроде условия не больно суровые. Да вспомнил клятву, данную у тела Софьюшки: не вступать с ворогом в договоры. Нури-бей хоть и не злой человек, ан все же бусурман, чужой, и прежде всего блюдет собственную выгоду.
Встал парень, поклонился в пояс:
— Ты прости меня, эфенди! Есть у нас в народе присловье: «Не любя жить — горе, а полюбишь — вдвое». Полюбился ты мне за доброту и ученость, оттого горько отвечать отказом на все твои предложения. Однако и ты пойми: не могу я служить султану, народа русского не предавая.
Нури-бей вздохнул:
— Что ж, если верблюд не испытывает жажды, глупо заставлять его пить. Изречено пророком: «Как могла бы уверовать хоть одна душа, если бы на это не было соизволения Аллаха?». И еще: «Если бы было угодно нам, мы каждой душе дали бы направление пути ее…». Нет на тебя обиды в сердце моем, хоть и обманул ты меня.
— Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года. Я лгал работорговцу Нури-бею, не наставнику. А вот как Будзюкей вдруг осмелился подстроить тебе каверзу? Вы же с ним старинные товарищи.
«Немало друзей считал для себя щитом я.
И были они, но только врагам, щитами».
Я отплачу сторицей немытому татарину. Он падок до гурий, и я продам ему в следующий приезд одалиску, зараженную «западной болезнью».[143] А вот с тобой что делать, гяур?
— Не отпустишь меня?
— Воистину нахальству твоему не имеется пределов! Может, ты еще и денег на дорогу домой попросишь? Если даже я, потеряв ум, отпущу тебя, ты до своих ледовых берлог в одиночку не доберешься — первый же работорговец схватит и продаст. Освободить тебя — значит выбросить на ветер сто золотых, заплаченных Будзюкею, да еще все затраты на твой прокорм и обучение. Я не настолько глуп. Кто тратит, не считая, оскудеет, не зная.
— А ведь душа-то у тебя ноет, просит: отпусти!
— «О душа, терпи, я не соглашусь на то, что ты желаешь!».
— Чьи слова?
— Их впервые произнес Малик ибн-Динар.
— Не устал ли жить чужой мудростью, эфенди?
— Неудавшийся поэт и несостоявшийся улем Нури-бей утешается чужой мудростью, купец Нури-бей вынужден полагаться на свой разум. А разум говорит: оставь глупую жалость, гяур не дойдет до Русии, а если и дойдет, станет опасным врагом Турции, ибо знает ее язык и обычаи.
Сафонку охватило страшное разочарование: призрачной оказалась его надежда. Не хватает купцу милосердия, своя мошна дороже, хоть и впрямь жалеет он меня. Не сдержавшись, Сафонка излил на собеседника досаду:
— Уважаемый хозяин, запомни одну мудрую мысль, кою вычитал я в старинном азбуковнике: «Коркодил — зверь водный, егда имать человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает».
Нури-бей понял намек, густо покраснел и негодующе тряхнул головой, так что тайласан, конец чалмы, выпущенный за плечо и закрывающий часть затылка, хлопнул его по уху.
— Ты злоупотребляешь моей добротой, гяур. Почему я должен оказывать тебе милость? Я не ханаку — странноприимный дом содержу, а купеческую лавку!
— Да, ты сперва торговец, а уж потом человек. Что ж, продай меня на галеры — выручишь часть денег.
— На бесконечные муки добровольно идешь?
— Ты же сам мне читал стих Хафиза: «Тот, кто боится страдать, не обретет наслажденья».
— Не пойму я тебя, гяур. То ты умен, то безрассуден. Наверное, просто молод, не ведаешь, что творишь. Впрочем, при таком норове до старости не доживают.
Я исполню твое желание, продам тебя на каторгу, тем более что для меня это единственная возможность хоть чуть-чуть возместить убытки. Не хочу больше тебя видеть, сердце рвать.
Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, лето 1582 года
Отец Хуа То вернулся уже два сезона назад, но никак не освоится в домашней обстановке. Как кот, принесенный в новое жилище, мечется из угла в угол, не зная, куда себя пристроить. Мама и То беспокоятся за него, теребят вопросами дедушку. Тот невозмутим:
— Дайте моему сыну привыкнуть к покою и миру. Вот уже пятнадцать лет он ничего не видел, кроме книг и похожих на пыточные застенки клетушек для экзаменующихся…
То хорошо представляет себе по рассказам папы обнесенные стеной узкие корпуса, разбитые на длинные коридоры, с множеством крохотных комнат. В каждой каморке маленькое окно и две доски, закрепленные на подставках. Одна служит столом, вторая сиденьем, вместе они ночью заменяют постель. По обоим концам коридора торчат будки для надзирателей. В отдельном корпусе живут экзаменаторы. Все — и проверяющие, и проверяемые — сидят здесь под замком до конца испытаний. О жизни внешнего мира они узнают по чередованию света и тьмы да стуку колотушек или ударам в барабан, отмечающим смены стражи.
На экзаменах нельзя пользоваться пособиями, потому будущим цзиньши лишь после тщательного обыска выдают пропуска, где указаны номера коридора и комнаты, а также листы бумаги с оттиском казенной печати, на коих обозначены темы сочинений в прозе и стихах. За предоставленное время надо создать литературные произведения установленного размера и ни в коем случае не испортить листы, иначе тебя сразу же вычеркнут из списка и отправят домой.
Дни упорного труда с перерывами на сон и еду… Но вот работа завершена, заполненные листы сдаются надзирателям, те передают их младшим чиновникам экзаменационной комиссии, которые все перенумеровывают, подписи заклеивают бумагой. На экзаменах на вторую и высшую ученые степени сочинение переписывается специальными писцами. На копии фамилию заклеивают и отдают экзаменаторам, оригинал остается в канцелярии. Мудрые предосторожности: теперь проверяющие не смогут узнать автора даже по почерку, а потому не сумеют завысить оценку из корысти или личной симпатии.
С ума можно сойти! За каждый экзамен папа худел так, будто месяц голодал. Тяготы, испытанные им в погоне за «цветком корицы», до сих пор возвращаются к нему ночными кошмарами.
То тоже предстоит пройти через бурные пороги к Драконовым воротам. Пока что экзамены кажутся ему довольно скучным и бессмысленным делом. «Пятнадцать лет упорного труда — тысяча лет счастья», — завещали предки. Да какое же это счастье — перечитать горы книг только для того, чтобы снова закопаться в бумажках? Неужели папе так интересно толковать и составлять исторические труды в Ханьлиньюане?