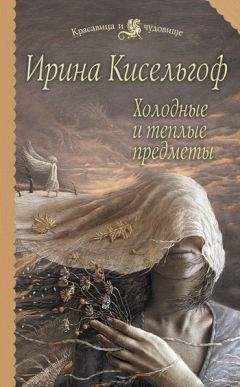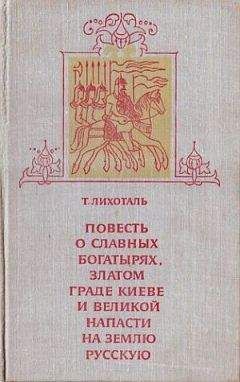В те дни в Галле только и разговоров было, что о прелестной незнакомке. Красавица, в глазах которой застыла печаль, знатная дама, скрывающаяся в убогом домике, для всех была загадкой. В одном только все сходились, что это знатная особа; благородные черты лица и величественная осанка выдавали светскую женщину, привыкшую к успеху и поклонению. Заметив, что за ней следят, она испуганно отходила вглубь комнаты, и потом долго в окне ничего нельзя было разглядеть, кроме белой занавески.
Ни осторожно выпытываемый хозяин дома, ни осаждаемая любопытными соседками хозяйка, ни слуги, которых даже пытались подкупить, – никто не раскрывал рта. Они лишь с опаской оглядывались по сторонам, пожимали плечами и бормотали что-то невнятное: ничего, мол, мы не знаем, кроме того, что эта больная женщина приехала откуда-то издалека. Но не только уличных зевак притягивал этот дом, иногда мимо проходил солдат, будто невзначай взглядывая на окна, или какой-то штатский, чья выправка с первого взгляда выдавала вояку. Иной раз вечером на противоположной стороне узкой улочки у стены располагались на ночлег солдаты и как бы случайно оставались там до утра, хотя это был не самый лучший постой. Прелестной незнакомкой, вызывавшей столько различных толков, была никто иная, как графиня Козель. Но до чего она изменилась!
Последнее путешествие сломило мужественную женщину, лишив последней надежды. Отчаявшись, чуть не потеряв от горя рассудок, она день и ночь обливалась горючими слезами и являла собой вид глубоко несчастный. Месть, следовавшая за ней по пятам, была столь ненасытной и неумолимой, что бедная графиня могла ждать всего, даже покушения на ее жизнь.
Из Берлина, где Анна Козель пользовалась полной свободой, она могла спастись бегством, в Галле же она была настоящей пленницей. Заклика, который последовал за ней и сюда, на другой же день после приезда сообщил графине, что все выходы из дома охраняются и Галле – это ничто иное, как тюрьма. Заклика мог ходить, куда ему вздумается, она же не вольна была распоряжаться собой. Однажды в воскресенье ей захотелось пойти в церковь, но, увидев, что за ней следят, она вернулась домой. Хозяин дома и его жена, с виду смиренные и вежливые, не вызывали доверия. Недаром именно этот дом выбрали прусские власти; значит, могли быть спокойны за свою узницу.
Заклика пытался сойтись с плутоватым хозяином и его молчаливой, запуганной женой, но те шарахнулись от него, как от зачумленного. На второй или третий день после приезда доложили о камергере ван Тинене. Козель вне себя от негодования и отвращения велела его принять. Он вошел с покорным, печальным и растерянным видом, словно не зная, как приступить к разговору.
– Зачем вы сюда пожаловали? – спросила Козель. – Я знаю, вы явились ко мне не из сострадания, а по приказу.
– Не совсем так, – возразил ван Тинен. – Мне не хотелось, чтобы вместо меня приехал кто-нибудь другой, не сочувствующий вашему несчастью.
– Я не нуждаюсь в вашем сочувствии, – промолвила Козель, – говорите прямо, зачем пожаловали. Я страдаю, но мужество еще не оставило меня, и я ко всему готова.
– Если бы вы только согласились, – сказал ван Тинен, – это ведь сущий пустяк, небольшая уступка, и все можно было бы поправить.
– Чего вам от меня надо?
Ван Тинен вздохнул.
– Я всего-навсего посланец и обязан передать, что мне приказано: так вот король требует письмо, то самое… с обещанием.
– И он полагает, что я так просто отдам его, чтобы из жены превратиться в любовницу, которую гонят прочь, когда она надоедает. Дорогой ван Тинен, – спокойно прибавила Анна, – если вы приехали за этим, уезжайте назад и скажите, что Козель никогда и ни за что не продаст своей чести!
– Графиня, ради бога, не упорствуйте! – уговаривал ее ван Тинен. – Вы можете навлечь на себя еще большее несчастье, а, отдав этот жалкий клочок бумаги, обретете свободу, все…
– О нет, я не верю Августу, – прошептала Козель, – в его усыпанной бриллиантами, покрытой золотой парчой и, как бриллианты и золото, холодной груди нет сердца. Мне теперь ничего не нужно – я потеряла самое дорогое, что есть на свете! И не верю больше ни ему, ни людям!
Козель не сказала ван Тинену ничего нового. Не удовлетворившись этим ответом, он просидел у нее несколько часов, но так ничего и не добился. Из сострадания к графине ван Тинен задержался в Галле еще на несколько дней, чтобы дать ей время для размышлений. Он приходил каждый день, повторял свою просьбу, уговаривал, умолял, но она день ото дня становилась все более холодной и неприступной.
– Я этой бумаги не отдам, в ней моя честь, достоинство, защита моя и моих детей, которых у меня отняли. Скорей я умру, чем он получит эту бумагу.
На другой день после визита ван Тинена графиня призвала к себе Заклику, который был похож на покойника: желтый, тощий – кожа да кости, прямо смотреть страшно. Молчит, точно немой, а в глазах – тоска, готовая по любому поводу обратиться в ярость. Разговаривать в доме было опасно: их могли подслушать и заподозрить в заговоре. И, делая вид, будто он выполняет хозяйственные поручения, Заклика во время разговора то выходил, то снова возвращался в комнату.
– Ведь я все равно, что в тюрьме, правда? – спросила Козель.
– Да, нас караулят.
– И тебя?
– Пока еще нет.
– Тогда оставь меня и уходи.
– Уйти? Бросить вас? Что я буду делать один? Куда денусь? Зачем мне тогда жить? Лучше в колодец кинуться да помереть.
– Это еще не конец, а начало моей неволи. Ты должен быть на свободе, чтобы, когда понадобится, спасти меня.
– Ежели так, приказывайте, графиня, – поразмыслив, молвил Раймунд.
– Ты всегда должен знать, где я нахожусь. Я тебе доверяю. Придумай, как меня освободить. У Лемана осталось несколько тысяч талеров, я дам тебе к нему записку, чтобы у тебя были деньги.
– Зачем они мне? – возмутился Заклика.
– Не тебе, а мне они нужны, – отрезала Козель, взглянув на него, и Раймунд покорно склонил голову.
– Прежде всего, узнай, отпустят ли тебя, отрекись от меня, скажи, что не желаешь больше мне служить, постарайся заслужить их доверие. Одним словом, действуй на свой страх и риск. На груди у тебя – мое сокровище, пусть оно там и остается. Я доверяю тебе, Заклика, понимаешь? – Козель протянула ему дрожащую руку. – Я верю только тебе! У одного тебя человеческое сердце. Смотри, не стань и ты изменником.
– Я?! – воскликнул Раймунд, и глаза его засверкали так дико, что Козель отпрянула. – Я? – повторил он, содрогнувшись. – Умереть я могу, но изменить?..
– Так вот, ты должен быть на свободе, не вызывая ничьих подозрений. Иди.
Долго разговаривать было нельзя. Раймунд ушел: вернулся он только на следующий день к вечеру, привел нового слугу и объявил графине, что оставляет ее. Анна удачно разыграла из себя разгневанную, оскорбленную госпожу, ибо хозяин и хозяйка подслушивали под дверью.