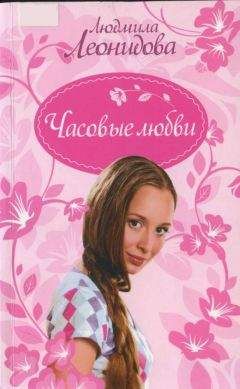– Петр Михайлович, я слишком уважаю вас, чтобы вызнавать правду обманными путями. Какова вероятность того, что наш благодетель… – Генерал не осмелился договорить фразу.
Волконский не вздрогнул и не побелел. А весь напрягся. Застыл, как айсберг. Грозный и безмолвный.
– Возьмите. – Наконец выдавил он. Его голос звучал глухо, как обвал в горах. – Мои крымские записи. – Князь вытащил из стола клеенчатую тетрадь. – На их основе я составил отчет для императрицы-матери. Понятное дело, туда вошло не все. Зачем разрывать старухе сердце?
Вырваться из когтей следствия оказалось непросто. После приезда на Бенкендорфа навалилась работа за упущенные две недели плюс текущая. Дома он только спал. И то часа по четыре, не больше. Кому нравится такая жизнь, добро пожаловать на галеры.
Углубиться в чтение дневников Волконского генерал смог только дня через четыре. Не то чтобы разгреб дела. Любопытство рвало внутренности, как лисенок под плащом терзал когтями кишки спартанскому мальчику. Вечер, когда семья отбыла в театр, был избран для откровений.
Генерал забился в кабинет, строго-настрого запретил себя беспокоить. Зажег две свечи на конторке, специально подставил к ней раздвижной стол-квартет, на который сгреб лишние бумаги, и углубился в первоначальное пролистывание. Он быстро отмел мысль, будто Петрохан подсунул ему фальшивку, вроде той, что была послана Марии Федоровне. Записи составлялись в разное время. Чернила где черные, где коричневые, а иные в грозовую синеву. Почерк то мелкий, убористый, спокойный. То усталый – крупные буквы наезжают друг на друга. Имелись помарки, приписки на полях, уточнения. Несколько вложенных помятых бумаг: копия протокола вскрытия, клочок вырванной откуда-то страницы.
Записи начинались с 5 ноября 1825 года, когда покойный государь прибыл из Крыма. Он грешил на барбарисовый сироп, который по жаре мог испортиться: «Ночью император почувствовал страшные припадки, его прослабило, и боль утихла. На другой день он посетил госпиталь в Перекопе, где опять явилась лихорадка». Старый ворчун Волконский принялся ныть, что царь не бережется, и на пятом десятке здоровье уж не то, что было в двадцать. «Я это хорошо понимаю, – оборвал его Александр. – И часто думаю, что меня ждет. Но будем надеяться на Бога».
6 ноября лихорадка не стихала. Ночь прошла дурно. Доктор баронет Виллие пожаловался Петрохану, что государь отвергает лекарства. «После барбарисовой воды ему все кажется, будто его травят. И, Боже правый, с чего он взял, что у него прекрасный желудок? Через день понос. Лейб-медик в отчаянии, боится худых последствий. Но других врачей не зовет. Всем заградил вход в императорскую спальню. Меж тем Ангел ему, кажется, доверяет меньше, чем в Петербурге.
Утром во время умывания государь храбрился, сказал, что лихорадки нет. Но взгляд его был слабый, глаза мутные и глухота приметнее обычного. До того, что приказал остановить доклад, пока не оденется. Ему трудно уловить голос, стоя к собеседнику спиной. Визави он половину читает по губам». Сердце у Бенкендорфа сжалось. Генерал досадовал на Ангела, корил его в душе. Но эти строки, описывавшие родной недуг, вызвали острую жалость. «Во время обеда его величество прошиб пот. Императора уложили на диван, укрыли байковым одеялом, Виллие дал слабительные пилюли, после действия которых он уснул».
7 ноября государь пребывал в необыкновенном возбуждении. Был весел, часто смеялся. Будто ожидал каких-то решительных известий. «Он не сказал нам, что это, но с жадностью хватался за бумаги из Петербурга. Глаза на его пожелтевшем лице то и дело загорались. Пот выступал на лбу». Александра уговаривали не работать нынешний день. «Привычка, – отвечал он на упрек императрицы. – Без нее чувствую пустоту в голове. Если я покину свой пост, то должен буду проглатывать целые библиотеки. Иначе сойду с ума».
«После обеда Елизавета Алексеевна дышала воздухом у окна, слушала рокот моря и мерные удары колокола из церкви Константина и Елены. “Хорошо бы остаться здесь навсегда, – сказал ей муж. – Вы увидите, что нам еще не захочется уезжать”. Государь бережет ее, все время отсылает от себя, говоря, что вот-вот начнет действовать лекарство. К счастью, императрицы не было поблизости, когда он лишился чувств. Виллие говорит: “Ожесточенные приступы слишком часто повторяются. Чрезвычайная слабость, апатия и вдруг возбуждение, за которым обморок”. Кажется, он не знает корней болезни, но боится это обнаружить».
8 ноября Волконский случайно заметил, что государь тайно ото всех принимает какую-то жидкость. Утром во время бритья князь видел в руке у императора пузырек, но не осмелился спросить. Виллие и другие медики решительно отрицали, что прописывали его величеству что-то, кроме слабительного, «которое уже не в первый раз с гневом отвергнуто. Никакие убеждения не действуют. Слезы баронета. Мой упрек, что государь сам себя травит. Страшный гнев. Потом полное обессиливание. Лежа на канапе, просил прощения. Говорил, что у него свои причины поступать так, а не иначе.
«Сожалел, что не может пойти к обедне. Сел на диван и сам читал Библию. Спрашивал, хорошо ли пели певчие и служил новый дьякон. За обедом ничего не ел, кроме воды с хлебным мякишем. Это всех нас поразило. Неужели он подозревает в кушаньях яд? Но и мы их едим. Настрого запретил писать в столицу о своей болезни, дабы тем не тревожить матушку.
Привезенные с курьером газеты его позабавили. Сказал: “В Петербурге по сие время тихо”. Почему это должно удивлять и радовать? На вопрос баронета о здоровье с какой-то непередаваемой не то усмешкой, не то гримасой: “Спокоен и свеж”. Бедный Виллие опять потихоньку плакал, передал мне, что считает лихорадку злокачественной, о чем говорят гнилая отрыжка, воспаление в стороне печени, которое можно прощупать пальцами, и частая рвота. Кажется, он струсил и впервые держал совет с медиком императрицы Стоффрегеном».
Спать император лег, улыбаясь, как младенец, и со словами: «Мне здесь так хорошо». Весь день 9 ноября чувствовал облегчение. Вновь занимался бумагами. Но по общей слабости принужден был оставить их рассыпанными на столике у дивана. «Боюсь, накапливается невероятное число, – пожаловался Волконскому. – Не знаю, что с ними делать». Князь ворчал, что теперь не до рескриптов, был бы здоров, а бумаги сами плодятся. И когда его величество задремал, взялся разбирать присланное, чтобы хоть сколько-нибудь пособить больному. Среди всякой ерунды, не стоившей императорской визы, ему попался замусоленный обрывок в четверть листа, написанный явно не вчера. Он лежал без конверта, не имел даты и фамилии отправителя. На нем красовалась всего одна строка по-французски: «Брат мой, покиньте Россию». Почерк напоминал руку Николая Тургенева, но Петрохан не поручился бы, ибо знал последнюю только по доставляемым из Государственного совета пакетам. И то, когда это было?
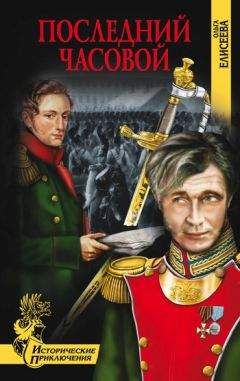
![Аллэин Флаер - Веревки и цепи. Часть первая - Веревки. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)