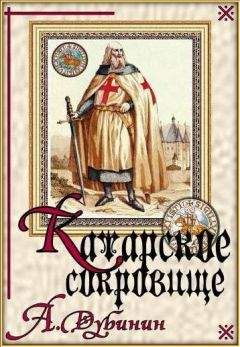— Со мной-то таких чудес не было, — вздохнул Антуан. Они разговаривали тихо, чтобы не слышали другие, и до сочувственного Люсьена донесся только Антуанов вздох. — Может, у меня… не оно совсем? Не настоящее призвание?
— Это иудеи пускай требуют чудес, а эллины ищут мудрости, — назидательно сказал Аймер, невольно цитируя своего наставника, как тот говорил ему в новициате. — А тебе чего еще? Любишь Христа распятого? Хочешь Его проповедовать?
Антуан поспешно кивнул.
— Хочешь быть монахом? Ну и успокойся тогда, Господь сам жертву Себе усмотрит. Призвание, его никак не поймаешь, ничем не обозначишь, печатью не запечатаешь: оно узнается только по радости, hilaritas. Вот у тебя есть время подумать — счастлив ли ты, что едешь с нами в монастырь, хотя одновременно и страшно тебе, и невесело?
— Да, — не раздумывая ни мига, ответил Антуан. И потом уже, решив, что надо для порядку поразмыслить, повторил менее решительно: — Да, брат… Мне кажется, что счастлив. Вот мама только… если б не мама…
Хорошего наставника я нашел своему парню, удовлетворенно подумал Гальярд, слышавший всю беседу от первого слова до последнего. Однако виду не подавал, продолжая клевать носом над книжкой. «Восьмое же благо проповеди — когда у диавола отнимается его добыча. Как сказано — «и из зубов его исторгал похищенное», что следует толковать применительно к добыче, которая исторгается у диавола посредством проповеди…»
17. Реликвия Святого Иосифа
Еще одно, последнее дело Гальярд никак не мог оставить незавершенным. Миновав уже Тараскон-на-Арьеже, вместо того, чтобы продолжать свой путь по берегу Арьежа в сторону Фуа и так до Памьера, инквизиторы со свитой свернули на меньшую дорогу, ведшую в направлении Бедельяка. Гальярд намеревался еще здесь, в Сабартесе, навсегда разобраться с вопросом катарского сокровища. Франсуа выглядел довольно мрачно и говорил о трате лишних трех дней. Сен-Жозеф, сообщал он себе под нос, монастырь маленький, из прежней братии там могло никого не остаться, а если и остались — дело-то было пятнадцать лет назад, кто ж теперь подробности упомнит, все равно свидетельств лучше, чем Памьерские протоколы, нигде не найти… Однако Гальярд оставался непреклонным. Не желая тащить в глухомань такую обширную свиту, да еще и двух арестованных, он оставил франков и охраняемых ими людей в Кабюсе — последнем по пути до монастыря населенном пункте. Он не углублялся в подробности, что в присутствии одного из арестантов у него не перестает болеть голова; и без излишней мистики решение оставить их с охраной в укрепленной крепостце Кабюса казалось резонным.
Сначала он хотел ехать в лес Сорат вдвоем с Франсуа, взяв с собою только маленькую чашу. Францисканец наотрез отказался трогаться с места без надлежащей охраны, и Гальярд, скрепя сердце, согласился на сопровождение двух франков. Тогда Франсуа потребовал также захватить и своего секретаря, Люсьена; Гальярд для равновесия позвал с собой Аймера. Но тогда Антуан кротко воспротивился идее оставаться одному в компании тринадцати франков и двух еретиков; что же, пришлось взять и его с собою. Оставив Ролана за старшего, Гальярд настрого запретил ему распускать своих людей и чего-либо требовать от жителей деревни: довольно того, что местный байль испуганно согласился кормить всю эту ораву до самого отбытия. Проведя в Кабюсе ночь, до рассвета инквизитор Фуа и Тулузена выехал к западу по берегу реки Сорат, и первую пару миль дороги он казался очень недовольным. Он-то хотел обернуться за день, вдвоем с Франсуа отправиться верхом, принести удобство в жертву скорости. А тут… Не то цыганский табор, не то семейство беженцев! На конях ехали только они с Франсуа, и то Гальярд старался как можно чаще с кем-нибудь меняться: ходить ему было куда удобнее, да и правильно это для монаха. Первый франк, Жан-Люк, шагал впереди, второй, Жан-Жак, замыкал процессию; Аймер вел под уздцы Гальярдова коня, Люсьен — коня Франсуа; Антуана видели везде сразу, он так старался не мешаться под ногами и быть полезным, что то и дело норовил попасть под копыта. Слава Богу, хоть повозку не взяли: кроме отвращения Гальярда к этому предмету помешала еще узость лесных ненаезженных троп. Бродячий цирк, думал Гальярд мрачно, озирая через плечо весьма разросшийся эскорт; мы можем исполнять за сходную плату псалмы, Аймер еще вспомнит вагантские песенки, а франки будут показывать приемы с оружием и споют что-нибудь из репертуара Иль-де-Франса, на настоящем языке ойль, чудесная редкость в этих краях! А Антуан? Что же, Антуан может обходить зрителей со шляпой. Вид у него достаточно жалобный для этой цели.
День был влажный, серый и туманный, мокрые кусты самшита по сторонам дороги быстро намочили конных по колено, а пеших и вовсе по пояс. Однако когда путники углубились в лес еще на пару миль, Гальярд неожиданно понял, что не может больше раздражаться. Такое блаженство, когда у тебя не болит голова! Особенно если за последнюю неделю головная боль приобрела свойство постоянного фона любой мысли, любого движения; боль то уменьшалась, то вырастала, но окончательно не уходила почти никогда. А тут — внезапное счастье: блаженная тишина. Серый и мокрый мир засиял для Гальярда яркими красками, ноябрьские голые деревья цвели, монах обращал радостное внимание на быстрых осенних птичек, занятых своими делами, на дождевых червей, выползавших под дождь на дорогу, на белую пену, встававшую под ветром на речной воде. Франсуа же, напротив, был недоволен мокрым странствием, он кашлял и говорил, что непременно разболеется, а также мрачно пророчествовал, что монастырь Сен-Жозеф наверняка полуразрушен и необитаем. Однако вопреки чаяниям брата Франсуа камальдолийская обитель оказалась вполне живой. Ее негромкий колокол путники услышали во второй половине дня: братию сзывали на службу часа девятого.
Всего в обители жило десятеро монахов: семь киновитов и три отшельника. Им нелегко было содержать свой храм и возделывать скудный огород; настоятель честно признался, что Сен-Жозефская обитель ради выживания скоро присоединится к какому-нибудь более крупному монастырю. Слыхано ли дело — всего одно пожертвование за последние шесть лет! Когда он только принял свою должность, в первый же год его служения поступило два пожертвования, а теперь рыцари и купцы предпочитают городские, деятельные монастыри лесным и уединенным, «не в обиду нищенствующим братьям будь сказано»… Настоятель был крупный, нестарый, но почти вовсе седой мужчина с таким смертельно усталым видом, что казалось — оставь его на минуту в покое, и он тут же уснет. Гальярд даже устыдился собственной небольшой усталости. Гостей угощали капустой из бочки, сухой рыбой из реки Сорат и хлебом тутошней выпечки — ноздреватым, серым, с изрядной примесью лебеды не то крапивы.