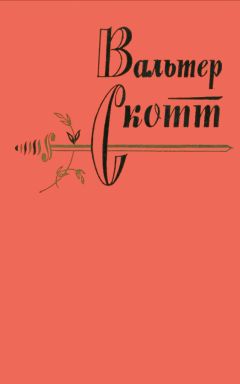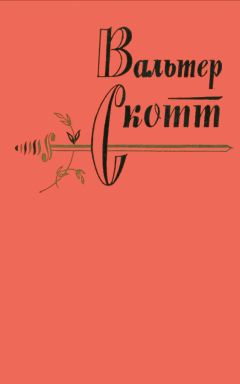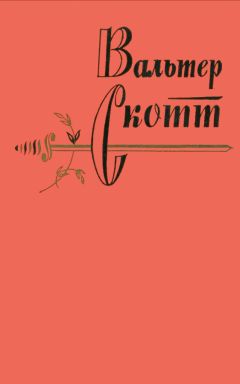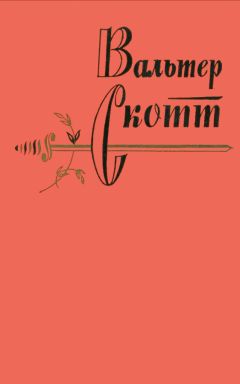— Но если ваша милость вспомнит случай с Товитом note 314…
— Товит! — воскликнул Гилфиллан с великим жаром. — Товит и его собака — языческая выдумка и апокриф. Только прелатисту или паписту пришло бы в голову привести их в пример. Начинаю думать, что я ошибся в тебе, друг.
— Весьма возможно, — невозмутимо заметил коробейник, — но тем не менее я позволю себе еще раз позвать мою бедняжку Боти.
Ответ на этот сигнал последовал самый неожиданный: в этот момент из кустов выскочили шесть или восемь горцев, ринулись в ложбину и принялись рубить палашами налево и направо. Гилфиллан, не растерявшись при виде этих непрошеных пришельцев, мужественно воскликнул: «Меч господа моего и Гедеона note 315!» — и, выхватив, в свою очередь, палаш, вероятно, постоял бы за правое дело не хуже его отважных заступников под Друмклогом note 316, как вдруг коробейник, вырвав мушкет из рук соседа, с такой силой опустил его приклад на голову своего недавнего наставника в камероновской вере, что тот мигом растянулся на земле. В последовавшей суматохе лошадь нашего героя была пристрелена кем-то из отряда Гилфиллана, выпалившим наудачу из своего кремневого ружья. Уэверли полетел вниз и угодил под лошадь, причем не на шутку расшибся. Но его стремительно извлекли из-под нее два гайлэндца и, схватив под руки, потащили с дороги, подальше от схватки. Бежали они очень быстро, наполовину поддерживая, наполовину волоча по земле нашего героя, который, однако, расслышал за спиной еще несколько выстрелов оттуда, где завязался бой. Они были произведены, как он впоследствии узнал, людьми из отряда Гилфиллана, которые наконец собрались все вместе, после того как к конвою присоединились авангард и арьергард. Горцы отступили, но не прежде, чем подстрелили Гилфиллана и двух из его людей, которые с тяжелыми ранениями остались на поле боя. С отрядом Гилфиллана они обменялись еще несколькими выстрелами, после чего камеронцы, потеряв своего командира и опасаясь попасть еще раз в засаду, уже не предпринимали больше никаких серьезных мер для того, чтобы отобрать своего узника. Решив, что разумнее всего продолжать путь на Стерлинг, они взвалили себе на плечи всех раненых вместе с командиром и двинулись дальше.
Глава 37. Уэверли все еще в тяжелом положении
Уэверли чуть не лишился чувств от стремительности и резких движений тащивших его горцев; он так расшибся, что еле мог волочить ноги. Заметив это, горцы призвали на помощь еще двух или трех человек из своего отряда и, завернув нашего героя в один из своих пледов и распределив таким образом вес его тела между всеми, потащили дальше с той же поспешностью, но уже без всякого участия с его стороны. Говорили они между собой мало, и то по-гэльски, и не замедлили шага, пока не отбежали мили на две, когда наконец поубавили несколько ход, но продолжали идти все еще очень быстро, время от времени сменяя друг друга.
Наш герой попытался с ними заговорить, но ему неизменно отвечали: «Cha n'eil Beurl' agam», то есть: «Не знаю по-английски», что, как Уэверли было прекрасно известно, является обычным ответом гайлэндца англичанину или жителю Нижней Шотландии, когда он его действительно не понимает или просто не желает отвечать. Тогда он упомянул имя Вих Иан Вора, полагая, что своему избавлению из когтей Одаренного Гилфиллана он обязан его дружбе, но и это не вызвало никакого отклика в его конвоирах.
Сумерки уже сменились лунным светом, когда отряд остановился на обрывистом краю лощины, которая, насколько можно было судить по освещенной части, вся заросла деревьями и густым кустарником. Двое из горцев нырнули в нее по небольшой тропинке — видимо, пошли на разведку. Вскоре один из них вернулся и что-то сказал спутникам, после чего они подняли свою ношу и весьма осторожно и бережно стали спускать нашего героя по крутой и узкой тропке. Однако, несмотря на все принятые меры, его особе пришлось не раз прийти в соприкосновение с сучками и ветками, которые преграждали им путь. На самом низу лощины и, как ему показалось, на берегу ручья (Уэверли услышал шум довольно мощного потока, хотя и не мог разглядеть его в темноте) отряд вновь остановился, на этот раз перед небольшой и грубо сложенной лачугой. Дверь была раскрыта настежь. Внутренность хижины выглядела столь же неуютно и неказисто, как можно было предвидеть по ее расположению и наружному виду. Какого-либо настила на полу не было и следа; в крыше в разных местах зияли дыры; стены были сложены из сухого камня и заделаны дерном; крыта она была ветками. Очаг был расположен посередине и наполнял весь вигвам дымом, валившим в такой же мере через дверь, как и через круглое отверстие в крыше. Древняя гайлэндская сивилла, единственная обитательница этого заброшенного жилища, была занята приготовлением пищи. При слабом свете огня Уэверли успел разглядеть, что его спутники не принадлежат к клану Ивора, так как Фергюс обращал сугубое внимание на то, чтобы его соратники всегда носили тартан с полосами, присвоенными их роду, — знак различия, некогда общепринятый в Горной Шотландии и поддерживаемый теми из вождей, которые гордились своей родословной или ревниво оберегали свою независимость и исключительную власть.
Эдуард достаточно долго прожил в Гленнакуойхе и научился обращать внимание на эти отличительные признаки, о которых так часто говорили, и, убедившись, что с этими людьми у него нет ничего общего, грустным взором обвел внутренность лачуги. Единственным предметом обстановки, за исключением кадки для умывания и полуразвалившегося деревянного шкафа для провизии, была огромная деревянная кровать, забранная со всех сторон досками, так что проникнуть в нее можно было, лишь отодвинув в сторону скользящую дверцу. В этот альков и уложили Уэверли, после того как он знаками дал понять, что не хочет есть. Неспокойный сон не освежил его; странные видения проносились перед его глазами, и, чтобы их рассеять, требовались непрерывные усилия. За этими болезненными признаками последовал озноб, сильная головная боль и стреляющие боли в руках и ногах; под утро его горским телохранителям или тюремщикам (он не знал, к какому разряду их отнести) стало ясно, что Уэверли совершенно не способен к передвижению.
После длительного совещания шесть человек из отряда забрали свое оружие и пошли прочь, оставив при Эдуарде одного старика и одного молодого. Первый подошел к Уэверли и омыл ему ушибленные места, теперь уже распухшие и посиневшие. К удивлению нашего героя, ему вручили в совершенной неприкосновенности его старую дорожную укладку, которую, оказывается, горцы сумели отбить. Таким образом, у него оказалось белье. Постель, на которой он лежал, была чистая и мягкая. Его престарелый прислужник произнес несколько слов по-гэльски, которые Уэверли воспринял как увещание отдохнуть, и задвинул дверцу кровати, так как занавесок на ней не было. Итак, второй раз уже наш герой оказывался пациентом гайлэндского эскулапа, но при обстоятельствах гораздо менее приятных, чем тогда, когда он был гостем достойного Томанрейта.