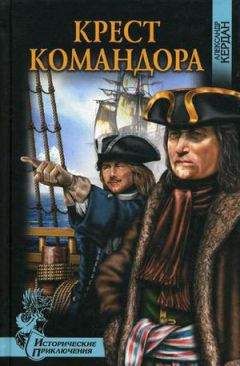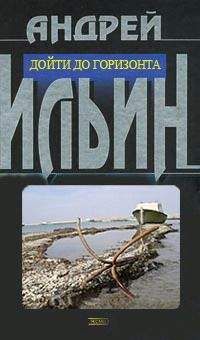А пока, слушая нудные песни дождей, а после – завывания вьюги и волков, морские офицеры проверяли оборудование, настраивали градштоки, квадранты, коротали время за разговорами о предстоящей дороге в неведомое. Играли в карты и в шахматы, ходили на званые обеды к местному гражданскому воеводе Лямзину. Когда метель затихала, отправлялись на охоту на лосей и косуль, которых в округе было немало, совершали пешие и санные походы по окрестностям. Видели горы Белую, Острую и Титешную. Старожилы рассказывали, что богаты эти места медной рудой и скоро станет строиться поблизости казённый завод…
Однажды, когда Дементьев и Овцын возвращались из дальней прогулки, около местного кладбища увидели странную процессию. Четыре гренадера несли на плечах грубо сколоченный деревянный ящик. За ними двигалась молодая женщина в долгополом салопе и черной шали. За руку она вела ребёнка лет пяти, который плакал и упирался. Поодаль плелись несколько ротозеев. Процессия остановилась у ворот кладбища. Но внутрь не вошла. Проваливаясь в сугробах, гренадеры понесли ящик в сторону полузасыпанной снегом ямы за оградой погоста.
Дементьев приказал Фильке остановить сани, они с Овцыным вышли и подошли поближе.
– Что происходит? – спросил Овцын одного из зевак.
Тот перекрестился и сказал:
– Смертоубийцу хоронят. Прапорщик здешнего гарнизона Щуплецов, вчерась в удавку голову сунул…
Говорящий недоверчиво оглядел незнакомых офицеров, но не утерпел, выложил новость:
– Грят, баба его загуляла. Грят, с самим воеводой… А Щуплецов этот не стерпел сорому… Такой вот фортель выкинул…
Тем временем гренадеры опустили ящик в яму, начали заступами тяжело крошить промерзшую землю и сгребать в яму. Ни священника, ни воинского караула. Особенно поразило Овцына и Дементьева то, что в неровный холм над могилой один из гренадеров вместо креста вбил осиновый кол.
Стараясь не глядеть на рыдающую вдову, воротились к саням.
– Женщины жестоки к страданьям тех, кого не любят… – задумчиво молвил Овцын, садясь в розвальни и запахивая полу епанчи. – Припоминаю я этого Щуплецова, видел его как-то у того же воеводы: невзрачный такой, тихий… А пил изрядно…
Дементьев тоже припомнил усопшего. Познакомились в местном кружале. Щуплецов рассказал, что служил некогда сержантом в столице в одном из гвардейских полков и в захудалый гарнизон был переведён по крайней бедности, так как не смог справить себе мундир к парадному расчёту. «Наверное, этот переезд пришёлся не по нраву супруге, вот и задурила», – подумал Дементьев.
Об этом и сказал Овцыну.
– С женой Щуплецова все ясно: журавль в небе показался дороже синицы в кулаке… – согласился тот. – Не зря же говорят, что баба задним умом живёт, она пока с печи летит, семьдесят семь дум передумает… Одного не пойму, Авраша – про воеводу здешнего. С виду такой приличный человек, семьянин и хозяин хлебосольный, и в церкви Божьей все заутренние выстаивает…. Да и в летах уже… А тоже, гляди, на блуд потянуло…
– Что Лямзин? Не токмо он один, – глубокомысленно изрек Дементьев, – я вот в бытность…
Он запоздало прикусил язык, понял, что чуть не выдал себя. Ещё в тридцатом году по заданию Тайной канцелярии он разбирался с делом астраханского губернатора генерал-майора Менгдена, который при живой жене вступил в связь с молоденькой попадьей Пелагеей, а от мужа её попа Андрея, проведавшего это, откупился пятьюдесятью рублями… Генеральские амуры так и остались бы незамеченными, если бы после скорой смерти батюшки губернатор не поместил любовницу прямо у себя в доме и не стал с ней жить открыто. Тамошний епископ увещевал его, но безрезультатно, о чём и сообщил в Тайную канцелярию. Эту историю и хотел рассказать Овцыну. Выкрутился, вспомнив слышанную от Фильки присказку:
– Сколько не мой гагару, белей не станет!
Овцын не заметил оговорку Дементьева:
– Кол-то как забили в могилу! – он всё ещё переживал похороны самоубийцы.
– Ужо не восстанет, не будет по ночам бродить… – со знанием дела подтвердил вездесущий Филька, выполнявший в поездке роль возницы. – У нежити своего облику нету, она в чужих личинах ходит, то девкой молодой прикинется, то старичком дряхлым. Токмо ни души, ни плоти у ней нету. Вид один. Словом, воинство сатанинское, архангелом Михаилом свергнутое…
– Цыц, хам, не встревай, пока не спросят! – прикрикнул на слугу Дементьев.
…Всё это вспомнил он теперь. Покачал головой, соглашаясь и не соглашаясь со словами Овцына о пропащей душе.
– Mea culpa[76], – сказал он, – но жить не хочу, confiteor[77]!
– Что ж, и мне прикажешь пулю в лоб пустить, ежели меня чина лишили? – неожиданно рассердился Овцын.
– Чин твой, Дмитрий, к тебе возвратится, рано или поздно, а она ко мне – никогда!
Овцын поднялся и сверху вниз поглядел на Дементьева:
– Погибели ищешь? Так просись с нами в плаванье. Вернёмся оттуда или нет, одному Господу ведомо. Если не суждено будет воротиться, так хотя бы встретишь смерть по-флотски, зная, за что жизнь отдал!
Дементьев тоже встал, вдруг просветлел лицом и порывисто обнял Овцына.
Когда отстранился, увидел, что Овцын улыбается. Улыбка была по-детски открытой и такой доброй, что Дементьев не удержался от ответной улыбки и спросил уже вполне добродушно:
– Над чем изволишь смеяться, сударь?
– Да над предстоящим тебе выбором, Авраам Михайлович.
– Что-то не пойму, поясни-ка.
– Если хочешь увеличить вероятность своей героической погибели, так просись на «Святого Петра», где за капитана наш капитан-командор… Ты же знаешь, я глубоко уважаю Витуса Ивановича и многим ему обязан… Но, как говорили древние: Платон мне друг, но истина дороже…
– Опять загадками говоришь!
– Никаких загадок, одни факты. Когда шли в Авачу Первым Курильским проливом, командор явил всё своё корабельное искусство. Семь дней водил нас от скалы к скале, ежечасно меняя галс… Даже Ваксель, что был у него вахтенным помощником, и тот растерялся от его команд. Знай молился да клялся, что за всю жизнь не подвергался такой опасности… Как на рифы не сели, до сей поры не ведаю. Шлюпку потеряли… а могли бы и живота лишиться! И это заметь, Авраам Михайлович, в каботажном плавании! Что же будет в открытом море?
– Нет уж, лучше я к Алексею Ильичу Чирикову в команду попрошусь…
– А что так? Неужто помирать расхотелось?
1
Главный столоначальник Тайной канцелярии Николай Иванович Хрущов собрался выходить в отставку. До желудочных коликов надоело ему многолетнее сидение в присутственном месте, перекладывание бумаг с угла на угол, чтение премерзостных доносов и столь же неприятных объяснений. Зело опостылело ведение протоколов на допросах с пристрастием, где рвут сердце на части крики пытуемых, к коим так и не привык за годы службы. Уж больно разочаровывает в человеческом роде однообразное зрелище неутоленной людской гордыни, телесной слабости и душевной тщеты.