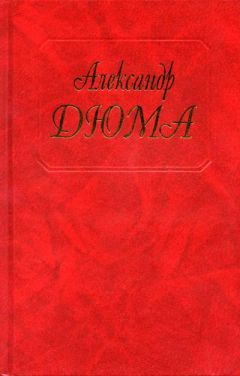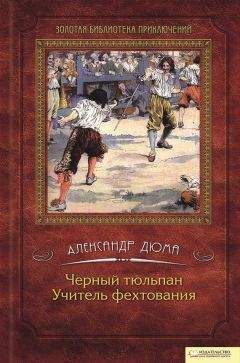— Я бы предпочел его убить, — сказал Ла Моль, — это проще и надежнее.
— А я, мой храбрый друг, — сказала королева, — предпочитаю, чтобы он жил, а вы бы знали все, так как его жизнь не только полезна нам, но необходима. Выслушайте меня и прежде чем ответить, хорошо обдумайте ваши слова: достаточно ли сильно вы меня любите, Ла Моль, чтобы порадоваться, когда я стану настоящей королевой, иными словами — властительницей настоящего королевства?
— Увы, мадам, я вас люблю настолько, что каждое ваше желание — мое желание, хотя бы оно стало несчастьем всей моей жизни!
— В таком случае, помогите мне осуществить мое желание, удача принесет и вам еще большее счастье!
— О мадам, тогда я потеряю вас! — воскликнул Ла Моль, закрывая лицо руками.
— Совсем нет, наоборот: из первого моего слуги вы станете первым моим подданным. Вот и все.
— О, здесь не место выгодам… не место честолюбию! Не унижайте того чувства, какое я питаю к вам… Только преданность, одна преданность — и больше ничего!
— Благодарная душа! — сказала Маргарита. — Хорошо! Я принимаю твою преданность и сумею отплатить.
Она протянула обе руки Ла Молю, который стал осыпать их поцелуями.
— Так как же? — спросила Маргарита.
— О да, — ответил Ла Моль. — Да, Маргарита, я начинаю понимать тот смутный для меня проект, о котором шла речь среди нас, гугенотов, еще до дня святого Варфоломея; ради его осуществления и я в числе многих, более достойных, был вызван в Париж. Вы добиваетесь настоящего Наваррского королевства вместо мнимого; к этому вас побуждает король Генрих. Де Муи в заговоре с вами, да? Но при чем тут герцог Алансонский? Где для него трон? Я не вижу. Неужели герцог Алансонский в такой степени вам друг, что помогает вам, ничего не требуя в награду за ту опасность, которой он подвергает себя?
— Друг мой, герцог входит в заговор ради самого себя. Пусть заблуждается: он будет отвечать своей жизнью за нашу жизнь.
— Но я состою при нем, разве могу я изменять ему?
— Изменять ему! А в чем измена? Что он вам доверил? Не он ли предательски поступил с вами, показав де Муи ваш плащ и вашу шляпу, чтобы тот мог свободно проходить к нему? Вы говорите: «Я состою при нем»! Раньше, чем при нем, вы состояли при мне, мой милый дворянин! Больше ли он доказал вам свою дружбу, чем я — свою любовь?
Ла Моль вскочил, бледный, как будто пораженный громом.
— О-о! Коконнас предсказывал мне это, — прошептал он. — Интрига обвивает меня своими кольцами… и задушит!
— Так что же?
— Вот мой ответ, — сказал Ла Моль, — там, на другом конце Франции, где ваше имя пользуется славой, где общая молва о вашей красоте дошла до моего сердца и возбудила в нем смутное желание неведомого, — там говорят, я это слышал сам, что вы не раз любили и каждый раз ваша любовь оказывалась роковой для тех, кого любили вы: их уносила смерть, словно ревнуя к вам.
— Ла Моль!
— Не перебивайте, Маргарита, любовь моя! Говорят еще, будто сердца этих верных вам друзей вы храните в золотых ящичках, иногда благоговейно смотрите на эти печальные останки и с грустью вспоминаете о тех, кто вас любил. Вы вздыхаете, моя дорогая королева, глаза ваши туманятся — значит, это правда. Тогда пусть я буду самым любимым, самым счастливым из ваших возлюбленных. Всем остальным вы пронзили только сердце, и вы храните их сердца; у меня вы берете больше — вы кладете мою голову на плаху… За это, Маргарита, клянитесь вот этим крестом, символом Бога, который спас мне жизнь здесь, у вас, — клянитесь, что если я умру за вас, как подсказывает мне мрачное предчувствие, и палач отрубит мне голову, то вы сохраните ее и иногда коснетесь вашими губами. Клянитесь, Маргарита, и я за обещание такой награды от моей царицы буду нем, стану изменником и, если надо, подлецом, — иными словами, буду вам беззаветно предан, как подобает вашему возлюбленному и сообщнику.
— О, какая скорбная, безумная мечта, мой дорогой! — сказала Маргарита. — Какая роковая мысль, любимый мой!
— Клянитесь!..
— Надо клясться?
— Да, вот на этом ларчике с крестом на крышке. Клянитесь!..
— Хорошо! — сказала Маргарита. — Если, не дай Боже, твои предчувствия осуществятся, любимый мой, клянусь тебе на этом кресте, что ты, живой или мертвый, будешь близ меня, пока сама я буду жить; если я не смогу спасти тебя от гибели, которая тебя постигнет из-за меня — да, я уверена, из-за меня одной, — я дам бедной душе твоей это заслуженное утешение.
— Еще одно, Маргарита. Теперь я спокоен и могу умереть, если меня ждет смерть; но я могу и остаться в живых — наше дело может закончиться успехом: король Наваррский станет королем, вы — королевой. Тогда король вас увезет с собой, и ваш обоюдный договор о раздельной супружеской жизни нарушится сам собой, а это разлучит нас. Слушайте, моя милая, моя любимая Маргарита: вашей клятвой вы успокоили меня на случай моей смерти, успокойте же теперь меня на тот случай, если я останусь жив.
— О нет, не бойся, я твоя душой и телом! — воскликнула Маргарита, еще раз протягивая руку к ларчику и кладя ее на крест. — Если поеду отсюда я, со мной поедешь ты; если король откажется взять тебя с собой, я не поеду с ним.
— Но вы не решитесь ему противиться.
— Мой дорогой, любимый, ты не знаешь Генриха. Сейчас он думает лишь об одном — стать королем; для этой цели он готов жертвовать всем, чем обладает, а уж подавно тем, чем не обладает. Прощай!
— Мадам, вы прогоняете меня? — улыбаясь, спросил Ла Моль.
— Час поздний, — ответила Маргарита.
— Верно; но куда же мне идти? В моей комнате — де Муи и герцог Алансонский.
— Ах, да, конечно, — сказала Маргарита с обаятельной улыбкой. — Да и мне надо еще многое вам рассказать об этом заговоре.
С этой ночи Ла Моль перестал быть просто любимцем королевы и получил право гордо держать голову, которой было уготовано, и мертвой и живой, такое заманчивое будущее. Но временами эта голова тяжело клонилась долу, щеки бледнели, и горькое раздумье прокладывало борозду между бровями молодого человека, некогда веселого — теперь счастливого!
Расставаясь с баронессой де Сов, Генрих Наваррский сказал ей:
— Шарлотта, ложитесь в постель, притворитесь тяжело больной и завтра ни под каким видом никого не принимайте.
Шарлотта послушалась, не спрашивая даже и себя о том, почему король дал ей такой совет. Она уже привыкла к подобным выходкам, как бы сказали в наше время, или чудачествам, как говорили в старину. Кроме того, она хорошо знала, что Генрих глубоко в своей душе прятал такие тайны, о которых не говорил ни с кем, а в уме своем таил такие планы, что боялся, как бы не выдать их во сне. Шарлотта сделалась послушной всем его желаниям, будучи уверена, что даже самые причудливые его мысли направлены к какой-то определенной цели.