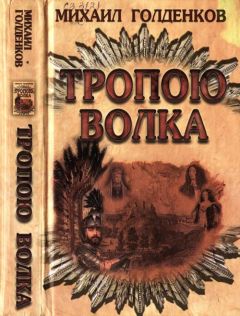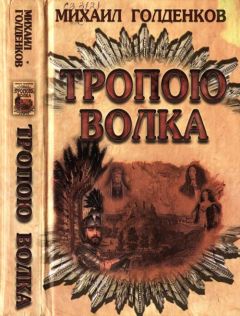— Не может быть! — вскочил Михал. — Он этого не мог сделать! Это же международный скандал!
— Сделал, увы, — кивнул сокрушенно Богуслав, — втайне от сената, втайне от шляхты. Надоело нашему великому князю быть королем Польши и Литвы, подавай ему и Швецию. Конечно, шведы могли бы вообще эту писульку не заметить, но не таков Карл Густав. Мне Де ла Гарды по секрету шепнул, что на письмо Карл отреагировал очень нервно, сказав буквально следующее: «Польский король захотел в Швецию? Так он будет под ней!» Вот так, Панове! А сие изречение значит, что не польский король будет шведским, а шведский — польским. Если уж шведы вторгнутся in casum (в конце концов — лат.) в Польшу, то от польской армии клочки полетят по закоулочкам. Думаю, поляки обречены. Их мир с Московией якобы ради нас ничего нам хорошего не принесет кроме потери половины страны, а их претензии на шведский трон simile (также — лат.) ставят под сомнение существование самой Польской короны. Куда ни кинь — всюду клин, как говорят в народе. И все из-за глупости твоего, Михал, крестного.
Михал сел, уронив голову.
— Не мог он так поступить, — продолжал стенать юный несвижский князь, — это же так нелепо! Матка Боска! Что творится вокруг!
Кмитич молчал. Он также имел повод недолюбливать и ляхов, и короля, и покойного королевского кума — отца Михала. Именно из-за пропольской ориентации Александра Радзивилла оказалась растоптанной его любовь к Иоанне Радзивилл. Отказали, словно и не князь он был, а холоп безродный. А ведь как он любил Иоанну, ее томные умные глаза янтарного цвета, глядящие словно из глубины самой души! И как она любила его! И то, что назло отцу и его сватовству к Лещинским она отдалась Кмитичу, думая, что этим остановит предстоящую женитьбу, в лишний раз доказало ее любовь. Но… победила не их любовь, а «здравый» расчет ее отца. Кмитич корил себя лишь за одно — что не украл Иоанну и не сбежал с любимой куда подальше.
— Думаешь, Карл Густав из-за этой глупой претензии пойдет войной на Польшу? — спросил Кмитич Богуслава.
— Думаю, пойдет, — ответил за Богуслава гетман, — история нашего дурака ничему не учит, как и ничему не учат ошибки его предшественника Жигимонта. Письмо короля — это не такие, вот как у нас тут, посиделки, это государственные дела! Каждое такое письмо — документ огромной важности! Тут надо думать, прежде чем пером по бумаге скрести! Ведь точно так же все уже когда-то было! Жигимонт как представитель Ваза предъявил Густаву Адольфу претензии на Эст-ляндию. Ну, и шведский король показал ему Эстляндию! А Жигимонт еще заставлял нас со Швецией воевать. Хорошо, что Хадкевич плюнул на Польшу и заключил сепаратный мир со Швецией. Так и сказал: «Вам надо, вы и воюйте, а мы со Швецией торговать хотим! И если надо, то пошла к чертям собачьим вся эта затея с Речью Посполитой!» Так и сказал. И что? Поляки хвост поджали, да и заткнулись. Так с ними и надо! У них своя свадьба, свои законы, у нас своя свадьба и свои традиции! Они со шведами всю жизнь из-за короны воевать желают, а мы торговать под их короной не прочь! Вот в чем разница! Вот в чем нестыковка наших двух держав! И зачем нам такой стратегический партнер, если он нас в свои войны будет втягивать, а на наши с высоты своего костела поплевывать! Ганьба! История повторяется, мои шановные сябры! Нам же нужен король optime Patriae et Reipublicae cupientem.
— Что? — удивленно поднял брови Оскирко.
— Который хотел бы наилучшего для Отечества и Речи Посполитой! — перевел гетман, усмехаясь, глядя на Богуслава, как бы говоря: «Не один ты тут у нас латынь знаешь, братко!»
— Верно, пан гетман, — кивнул головой Оскирко.
— Думаю, что выбор у нас невелик, — заключил Богуслав, — мы должны partes sveticas seqi [29].
— Верно, — кивали остальные. И Михал, и Гонсевский, и Кмитич — все соглашались с Янушем.
Гетман рубил сплеча, говорил порой грубые и неприятные вещи, кажется, что даже с легкостью разбазаривал государственные земли, но все это, учитывая ситуацию гибели или спасения самой Литвы, выглядело весьма и весьма оправданным. На Польшу надежд уже не было никаких. Как ни крути — гетман был абсолютно прав. Литву затопило, и кто-то должен плыть на лодке с шестом и спасать ее жителей от бездонной пучины. И без жертв, без потерь тут не обойтись. Правда, Михал, пусть умом и понимал, что его кузены полностью правы, сердцем не желал разрыва с Польшей, которую считал также своей страной. «Может, после войны все утрясется?» — думал Михал.
Почти то же самое думал Кмитич. Ему, впрочем, перспектива иметь собственное королевство и собственного великого князя нравилась больше, чем союз с капризной и непредсказуемой Польшей. «Да, польский король Баторий нас выручил в Ливонскую войну, — думал Кмитич, — но если Баторий венгерских кровей, то это же не значит, что нужно объединятся и с Венгрией. Да, когда-то мы, славяне, все жили в Руси По-лабья на берегах Лабы, всем было весело и дружно, но ведь с тех пор славянское семейство разбежалось по всей Европе, у каждого своя страна, свой король. Может, это в самом деле глупая ностальгия русских славян обязательно вновь объединиться? Может, это просто наивная попытка вернуть счастливое детство, которое ушло безвозвратно? Нет, все же прав Януш. Нужно с поляками дружить, но табачок иметь свой».
В тот же день перепуганный приближением литвинскош войска пан Поклонский писал царю вновь, что большой городской вал Могилева «с трех сторон, и тот худ, а через вал ходят люди; а с четвертой стороны река Днепр, и по реке Днепру, валу и острогу никакой крепости нет. В городе 1105 солдат, причем многие лежат больны…» Войеков подхватывал Поклонского собственным жалобным листом: «Со мною, холопом твоим, в Могилеве твоих государевых ратных людей нет никого; а пушечного и ручного зелья и свинцу в Могилеве нет ничего, и пушек мало и около земляного валу по воротам сторожей нет»…
Януш Радзивилл не из суеверия ожидал нового года. Он ждал, когда могилевские союзники московитян начнут разбегаться из города сами, нахлебавшись досыта нового порядка. И люди, в самом деле, начинали бежать. Однако и царь, услышав отчаянные мольбы Поклонского с Войековым, выслал из-под Дубровно подкрепление в лице окольничего Алферье-ва с солдатским полком и двумя стрелецкими приказами: Авраама Лопухина и Логина Аничкова. Алферьеву дали наказ не пустить Радзивилла даже в уезд, но части армии гетмана уже были там. Из Вязьмы в Могилев спешно вышел Ромодановский с большим отрядом конных и пеших ратников. Иван Золота-ренко получил приказ идти к Поклонскому и соединиться с Ромодановским. В самом конце декабря Поклонский привел четыре тысячи человек и засел с ними в Буйничском монастыре в полумиле от города. Сюда и сунулся авангард Радзивилла, но был отбит и, боясь преследования и окончательного разгрома, быстро отступил к Старому Быхову. Туда же в последний день уходящего года пришли Радзивилл с Кмити-чем и Гонсевский, и вскоре подтянулся со своей хоругвией, на радость Кмитичу, Михал Радзивилл. Они все расположились в Баркулабово и окрестных деревнях, начав активно готовиться к штурму Нового Быхова, где сидело восемь тысяч казаков. Михала подмывало рассказать Кмитичу про Дрозда и его портрет, но он решил повременить, тем более, что картина все еще находилась в Варшаве, и сам Михал о ней ничего не знал.