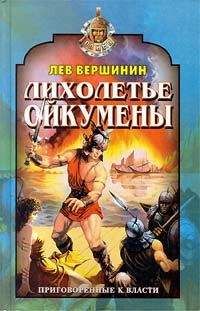Удар. Удар. Удар. Удар…
Все быстрее, быстрее, быст…
Томительный протяжный крик.
Тишина.
Урчание толпы.
Уд-дар. Уд-дар. Уд-дар…
Захлебывающийся всхлип, полный истомы.
Тишина.
Гулкое дыхание застоявшегося стада.
Удар-удар-удар-ударударударудар… удаааар!
Исступленный вой, на вдохе.
Тишина.
И вновь, и опять, и еще раз!
И еще!
Боги! Возможно ли такое?!!!!!!
Ему же всего одиннадцать, боги!
Тишина.
И тьма…
Тотчас нечто влажно-прохладное коснулось лба. Открыв глаза, Киней видит над собой лицо Главкия. А вокруг – привычные стены, стол для письма, полка со свитками, очаг, отделанный горным хрусталем.
Он в своих покоях.
И сам царь иллирийцев, уподобившись сиделке, отирает холодный пот со лба.
– Все уже позади. Не бойся, – проползают словно сквозь толстую парфянскую вату слова, произносимые намеренно внятно и подчеркнуто раздельно. – Слабость скоро пройдет. Вы, эллины, изнеженный народец. Мало кому из вас под силу выдержать встречу с посланницей Тех, Кто Выкармливает Корни. Сейчас ты уснешь, Киней. И проснешься полным сил. Но перед тем, как уснуть, услышь и запомни…
Афинянин не сопротивляется. Он слышит. И запоминает.
– Ты – друг Иллирии, мой и Пирра. Поэтому тебе позволили увидеть запретное для чужих. Но лучше будет, если ты никогда и никому не расскажешь о том, что видел. Даже своему заморскому другу…
Что?! Что он сказал?!
– Я не могу приказывать тебе, Киней. Ты эллин, и ты свободный человек. Ты вправе не слушать меня. Но все же – послушай. Так будет лучше для всех…
Киней кивает, даже не думая протестовать.
Он не скажет никому ни слова.
Он понял: так будет лучше.
Сквозь плотные, тугие затычки в ушах проскальзывает искра иронии.
– В остальном – твоя воля. Пиши, что угодно. О чем пожелаешь. И о ком захочешь. Но старайся все же, гость мой и друг, не угодить босой ногой в осиное гнездо. Надеюсь, ты понял, о чем я?
Тяжелые зрачки Главкия ловят глаза Кинея.
Менее всего схож этот взгляд немолодого варвара, неловко закутанного в щегольской, заморский, по последней афинской моде расшитый гиматий, со взглядом коровы, на которую напялили седло…
Скодра. Конец весны того же года
«От Кинея-афинянина Гиерониму из Кардии – привет!
Ты просишь меня, друг, описать здешние таинства, ибо из предыдущего письма моего понял, что иные из них схожи с теми, что бытовали у нас, эллинов, в стародавние, мифические времена. Что ж, изволь:
……
Вот так примерно, в общем и целом, обстоят дела с интересующей тебя проблемой. От досконального же описания подробностей воздержусь по причинам, перечислять которые здесь не время и не место, отметив только, что слишком многие в здешних, на первый взгляд, неискушенных краях обучились искусству вскрывать не адресованную им переписку. Прими на веру мои слова, любезный друг, и раздели со мной надежду услышать интересующее тебя при личной встрече, каковая, не устаю верить, все же состоится. Во всяком случае, последние события – как те, о которых ты любезно поставил меня в известность, так и происходящее в наших местах, – насколько можно судить, вполне предполагают такую возможность…
Искренне благодарю тебя за милое письмо, и особо – за отрывки из последних произведений, получив которые, я, верный почитатель твоего дара, сей же час уединился в кабинете, запершись на засов ото всех и вся и поставив на страже своего покоя дюжего фракийца, не уступающего Гераклу ни мощью мышц, ни размерами дубины, настрого приказав сему сыну Родопских ущелий не пропускать ко мне никого, кроме, естественно, моего покровителя Главкия. Могу ли я передать, как трепетали руки мои, расстегивая застежки на футлярах?! Должен сознаться: годы интеллектуального голода и отсутствие подходящего круга общения превратили нормальную библиофилию, свойственную каждому разумному человеку, в подлинную библиофагию. Увы, с некоторых пор, изнасиловав самого себя, я ограничил список свитков, заказываемых у амбракийских переписчиков. Ученики мои нынче вошли в ту самую всем нам не понаслышке известную пору перехода в зрелость, когда любое мнение старших встречает ожесточенное отторжение, писаное же слово кажется попросту скучным. Это преходяще, разумеется. Болезнь роста, неизбежная и простительная… И все же я прекратил на время посылать заказы библиотекарям. Использовать доверие и средства покровителя моего, ссылаясь на методологические надобности, неприемлемо для меня по соображениям этики, хотя, надо признать, со ссылками на методологию из здешнего казнохранилища можно выкачивать статеры бесконечно. Но что поделаешь, если боги не снабдили меня изворотливостью, свойственной множеству наших с тобой соотечественников! Вот почему – не буду скрывать и не боюсь вызвать на твоих устах снисходительную усмешку! – я, прежде чем углубиться в чтение, ласкал свитки, словно груди давно желанной женщины, посетить которую наконец-то позволили сбережения, и предвкушение мое было не менее острым, нежели в тот пасмурный день, когда – помнишь ли ты, душа моя? – отпросившись у наставника Эвмена на осмотр в познавательных целях висячих садов Семирамиды, мы с тобою познавали совсем другое, осматривая чудеса заведения госпожи, если мне не изменяет память, Энки-Нин-аплу-Мардук в веселом квартале славного города городов Вавилона…
Ты пишешь, что мнение мое интересует тебя, как автора, более, нежели отклики иных, увенчанных лаврами повсеместного признания. Что ж, безмерно польщен. Однако же столь высокое доверие предполагает и полную откровенность. Ты знаешь, друг мой, я не льстив и склонен по натуре скорее к гиперкритике, нежели к дифирамбам, и зачастую ознакомление со свежими текстами превращается мною в «охоту на блох», как говаривал, помнится, наш незабываемый наставник и твой земляк Эвмен. Так что, душа Гиероним, прими похвальные слова, сказанные ниже, как должное, критику же попытайся оценить не с точки зрения пристрастного автора, но с позиции читателя, который, я искренне в этом убежден, станет обращаться к трудам Гиеронима Кардианского спустя многие и многие века после того, как даже обугленные костром кости наши истлеют, а привычный нам мир изменится, уступив место тому новому, что уже зарождается где-то в недрах жестокой Истории, кузницы прекрасной, но беспощадной Музы Клио.
Что касается первой и второй глав из «Естественной истории», комментариев к эпитомам «Истории Эллады и прилежащего мира» и, наконец, изумительной по замыслу и свежести затронутой проблематики «Философии космической эстетики», то тут, не углубляясь в долгие рассуждения, безоговорочно склоняюсь перед тобой, мой Гиероним, и признаю, что если кто-либо из мыслителей нашего поколения прославится в веках, то право на долю – и немалую! – этой славы ты уже обеспечил себе, даже ежели прочитанное мною так и останется в неизданных набросках! Однако же молю и настаиваю: заверши! И поскорее издай! Благо возможностей у тебя сейчас достаточно. Я лишаю тебя права в угоду сиюминутным интересам жертвовать исследованием концепций, представляющих несомненный интерес для всей мыслящей Эллады! Да что Эллада! – Для всей Ойкумены, справедливо полагающей Элладу светочем и источником культуры и прогресса. Жалею лишь о том, что нет с нами великого Аристотеля! Старик поторопился уйти в лучший мир, лишив себя удовольствия узнать, что дело его жизни находится в надежных руках. Зная мою нелюбовь к превосходным степеням, ты сумеешь понять, как долго размышлял я, прежде чем дать твоим текстам такую оценку, никак не свойственную моим, признаю, излишне завышенным, но устоявшимся и не подлежащим пересмотру критериям. Отчего и тешу себя надеждою, что с тобой будут без гнева и пристрастия приняты и менее приятные суждения мои, относящиеся исключительно к завершенному тобою первому тому «Жизнеописания Деметрия Великолепного».