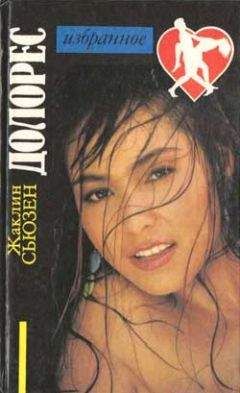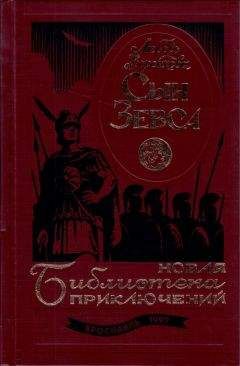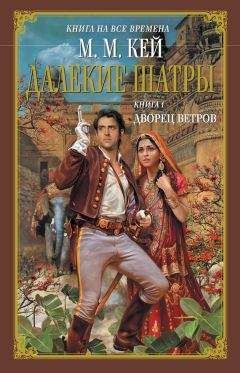Сказал об этом Данила как бы между прочим, когда они уже сидели за столом после бани, а в кружке плескался разбавленный спиртом чай.
— После той поездки я, паря, знашь, озлобился, — перешел на свое. — На кого? — счас бы и не сказал. На себя, верно, на людей, на свою неустроенную жись. Вот отец твой, все у него рядком да ладком. Фронт, ордена, почет. Женился, вас наделал, трудится, в почете у начальства, людям угоден. А я?..
На этот раз Данила говорил жестко, с придыхом, срываясь на хрип. Кулак его то и дело поднимался над грубо сколоченным столом и резко опускался, отчего подпрыгивала кружка, на душе становилось тревожно и неуютно.
Большая сила была в этом человеке, большая жажда к жизни, но не израсходованная, не воплотившаяся, не востребованная, что особенно чувствовалось в такие минуты и что прорывалось во всем: в неспешных поворотах сильного тела, в звучном голосе, тяжелом взгляде. Но эти минуты казались Вовке лучшими в его, пока еще недолгой, жизни, и жизнь собственная будущая мерещилась ему полной опасностей, где надо быть начеку, иметь силу и деньги, где выживает и становится над всеми другими людьми только тот, кто ломится в ее запертую для хлюпиков дверь и отворяет их в те радужные пространства, где навалено всего, чего пожелает душа.
— На фронте я, паря, через многие земли прошел и думал, что много видел и много знаю. Но это — чушь. Приказали: «Иди!» И ты прешь по грязище с одним только желанием — присесть, отдохнуть, обогреться. Приказали: «Окапывайся!» И роешь, как крот, землю. Приказали: «В атаку!» И света белого не видишь, бежишь, как чумной, сквозь железо, свист, грохот. А чуть передышка и — спать. Ничего не надо: ни жратвы, ни баб. Пришел с войны и в тайге только очухался. И тут задумался: где я был? Че видел? Че знаю? Ни-че-го! Ничего не видел, ничего не знаю…
Данила глотнул чаю, замолчал, глядя, по своему обыкновению, куда-то в угол зимовья. Потишевшим голосом продолжил:
— Выйду из тайги, гляжу: фронтовички нацепляют на грудь медалек, нажрутся самогонки и пихают друг дружку, а назавтра пресмыкаются перед бригадиром — вояки ср… Им ли пресмыкаться — через огонь прошли! Врагу в лицо смотрели без робости, какой пострашнее любого леспромхозовского начальничка. Стоит какой-нибудь бывший фронтовичок, голову в плечи втянул, глаза вперил в землю, голос дрожит, оправдывается, а бригадиришка над ним измывается… Да ни в чем же не виноват мужик. Ну, выпил, вспомнил кровь, гибель товарищей, грязь, вшу окопную, слякоть дорожную, холод собачий. И как не выпить? Не за себя выпить — за оставшихся там навечно. Кто не возвернулся до хаты, не обнял мать, жену, деток. Не женихался, не сидел за столом с родней, с одногодками. Потому и бросил я леспромхозовскую работенку. Люблю, чтобы вольготно душе было, чтобы зверь и человек тебя боялись. Чтобы шел по улице и тобой детишек пугали… Не люблю я род человеческий — паскудный он, подлый. И я сам такой же. Потому лучше отдельно от всех. Одному некому паскудить, некому гадить, некому докладывать, куда пошел и зачем. Пошел и пошел — ответ держишь тока перед самим собой.
— И все… гадят?
— Есть, канешна, исключения, — спохватился Данила, поняв, о ком подумал племянник. — Твой отец, к примеру. Ему бы в попы или по крайности в учителя. Я уж на выселках проживал, как явился ко мне Степка. Вместе стали жить, а он все мне талдычит, мол, че ты, Данила, к людям не идешь: построил бы дом, женился бы и жил, как все. Я сдуру толком не мог понять, че он хочет, иной раз накричу на него. А он все о своем. Тут и война, меня взяли, почитай, в первые дни. Его — позже. Так и разошлись наши с ним пути-дороги. Он — в семье, вас вот завел. И — правильно, должен же кто-то род человеческий продолжать. И пусть себе живет. Тока разные мы, хоть и браты родные. Но человек он хороший и с головой.
«Разные — это точно, — соглашался про себя Вовка. — Вот только хорошо это или плохо?»
Данила сказывал дальше, Вовка слушал, понимая, что дядька чегой-то недоговаривает. Ведь бывает, идет человек и вдруг остановится. И начнет хлопать себя по карманам. Потом выворачивать, осматривая каждый шов. Потом крутанется и пойдет в обратную сторону искать потерянное и не находит. Потом плюнет и снова той же дорогой. И всю последующую жизнь ему чего-то не хватает. И мучается. Куролесит. Кружит вкруг себя, будто кошка, к хвосту которой привязали бумажку.
Но в старшем Белове его не могли не восхищать независимый нрав, крутой характер и что-то еще такое, чего Вовка не в состоянии был понять, а тем более объяснить. И мало-помалу в нем пробился росток желания во всем походить на Данилу. Росток креп, поднимался все выше и выше. Походка стала увереннее. На оклик поворачивался медленно и непременно всем корпусом. Глаза смотрели прямо в глаза встречного поселкового люда. Мало того, на губах стала проявляться все та же, что и у дядьки, усмешечка.
— Глянь-кось, и в энтом молокососе варначья кровушка заиграла, — толковала какая-нибудь бабенка соседке по лавочке. — Ишь, как голову-то заворачиват, ни дать ни взять — убивец Данилка…
— Так, милая, та-ак, — согласно кивала соседка. — Тока кто в точности знат, что Данилка убивец? А уж повадками — вылитый варнак. И по улице идет — не глянет, быдто не люди кругом, а вши каки-нибудь. Но вить отец-то Володькин не таковский. Нет в ем того гонору…
— Не скажи, подруга, — возражала зачинщица разговора. — И Степан Афанасьевич с карахтером…
— Так-так-так… — тянула другая, не зная, что возразить.
А возражать действительно было нечего. Степан Афанасьевич Белов характер имел твердый и в этом ни в чем не уступал старшему брату. Но он жил с людьми и среди людей. Потому привык сдерживать себя, урезонивать, когда надо было, уходить в сторону от места, где назревала драка. Даже пытался пенять старшему брату, мол, ты бы, братец, характер-то свой попридерживал, не среди волков живешь — среди людей.
Данила в такие минуты не перечил младшому, а если тот в своих нравоучениях заходил далеко, говорил примирительно:
— Ты бы, брательник, шел к своей Танюхе и читал ей свои морали. А меня поздно учить. Я — сам с усам. Каки это люди, о которых ты все толкуешь? Курята, а не люди. И поселок — курятник, в курятнике и кудахтают. И пусть себе кудахтают. Я же человек вольный. Хожу где хочу. Живу как хочу. Ем, сплю, баб щупаю, пока силенки есть.
После таких разговоров иной раз брал в руки гармонь — эти минуты особенно любил Вовка. Какая-то задушевность — даже нежность проявлялась в Даниле Афанасьевиче. Какая-то пронзительная несказанность или, вернее, невысказанность изливалась в распевных всхлипывающих планках старенькой гармони. Какая-то тонкая чудная песнь страдальческой души, напрасно искавшей земное счастье и разбившейся вдрызг об острые камни с высоты птичьего полета. Разбившаяся, но не погибшая невозвратно, а подлеченная, с видимыми глазу уродливыми рубцами ран, под которыми продолжала струиться молодая родниковая вода — никому не видимая, никем не испитая.