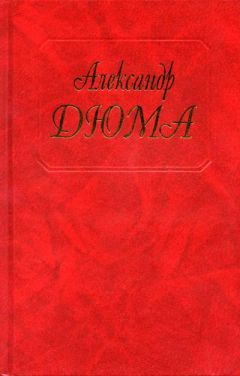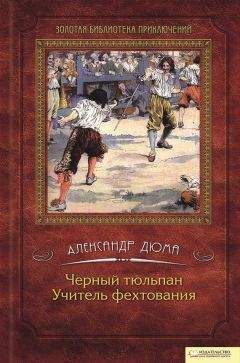— Да, это виконт де Тюренн.
— Вы поняли, чего они хотели от меня?
— Да, они предлагали вам бежать.
— Как видите, — сказал Генрих встревоженному герцогу, — есть вторая партия, которая хочет другого, а не того, что де Муи.
— Вторая партия?
— Да, и, повторяю, очень сильная. Таким образом, чтоб обеспечить себе успех, надо объединить эти две партии — де Тюренна и де Муи. Заговор ширится, войска размещены и ждут только сигнала. Это крайне напряженное положение требует быстрой развязки, и у меня созрели два решения, между которыми я до сих пор колеблюсь. Я и пришел отдать их на суд вам, как своему другу.
— Скажите лучше — как своему брату.
— Да, как брату, — подтвердил Генрих.
— Говорите, я слушаю.
— Прежде всего, я должен объяснить вам мое душевное состояние. Никаких стремлений, никакого честолюбия у меня нет, да нет для этого и необходимых способностей, — я простой деревенский дворянин, бедный, чувствительный и робкий; деятельность заговорщика представляется мне связанной с такими неприятностями, которые не вознаграждаются даже твердой надеждой на получение короны.
— Нет, брат мой, — отвечал Франсуа, — вы заблуждаетесь относительно себя: печально положение наследника царственного дома, когда все его благосостояние ограничено межевым камнем на отцовском поле, а весь двор — одним слугой; и я не очень верю тому, что вы мне говорите.
— Но тем не менее все, что я говорю вам, — правда, и настолько, что, будь у меня настоящий друг, я готов отказаться в его пользу от власти, которую мне предлагают заинтересованные во мне люди; но, — прибавил он со вздохом, — такого друга у меня нет.
— Так ли? Вы, несомненно, ошибаетесь.
— Святая пятница! Нет! — сказал Генрих. — Кроме вас, мой брат, нет никого, кто любил бы меня. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы ужасные междоусобицы обратились в мертворожденную попытку выдвинуть на свет Божий кого-нибудь… недостойного… и я предпочитаю осведомить моего брата короля о том, что происходит. Я никого не назову, не скажу, где и когда, а только предотвращу огромное несчастье.
— Великий Боже! — воскликнул герцог Алансонский, не в силах подавить ужаса. — Что вы говорите!.. И кто? Вы, единственная надежда протестантской партии со времени смерти адмирала! Вы, гугенот, правда обращенный, но, как думают, плохо обращенный, — вы занесете нож над вашими собратьями! Генрих, Генрих! Неужели вы не понимаете, что, поступив так, вы устроите вторую Варфоломеевскую ночь всем гугенотам королевства? Точно вы не знаете, что Екатерина спит и видит, как бы дорезать всех, кто уцелел!
Лицо герцога пошло пятнами, он весь затрепетал и стиснул руку Генриха, умоляя отказаться от этого решения, которое губило его самого.
— Вот что! Неужели, вы думаете, это повлечет за собой столько несчастий? — с наигранным добродушием заметил Генрих. — Мне кажется, что, заручившись словом короля, я смогу обещать заговорщикам сохранить жизнь.
— Слово короля Карла Девятого? Генрих, разве он не давал слова адмиралу? Разве он не дал его и Телиньи? Да, наконец, вам лично? Говорю вам, Генрих: поступив так, вы всех погубите; не только гугенотов, но и всех тех, кто был с ними в косвенных или прямых сношениях.
Генрих с минуту как будто размышлял.
— Если бы я был королевским принцем, имеющим значение при дворе, — сказал он, — я бы поступил иначе. Например, будь я на вашем месте, Франсуа, то есть принцем французского царствующего дома, возможным наследником престола…
Франсуа иронически покачал головой.
— Как бы поступили вы на моем месте? — спросил он.
— На вашем месте я бы стал во главе движения, чтобы направлять его, — ответил Генрих. — Тогда мое имя, мой политический вес были бы порукой перед моею совестью за жизнь мятежников, и я бы извлек пользу прежде всего для себя, а может быть, и для короля из предприятия, которое в противном случае может нанести величайший вред Франции.
Герцог слушал Генриха с такой радостью, что всякое напряжение исчезло с его лица.
— И вы думаете, — спросил он, — что такой образ действий осуществим и избавит нас от тех бедствий, которые вы предсказываете?
— Да, таково мое мнение, — ответил Генрих. — Гугеноты любят вас. Ваши скромные манеры, ваше высокое и в то же время внушающее участие положение, наконец, ваше всегдашнее благоволение к приверженцам протестантской веры побудят их служить вам.
— Но в протестантской партии раскол, — сказал герцог. — Будут ли за меня ваши сторонники?
— Я берусь уговорить их благодаря двум обстоятельствам.
— Каким же?
— Во-первых, благодаря доверию их вождей ко мне; во-вторых, благодаря их страху за свою участь, так как ваше величество, зная их имена…
— Но кто же мне скажет их имена?
— Я, святая пятница!
— И вы это сделаете?
— Послушайте, Франсуа, я уже сказал вам, что из всего здешнего двора я не люблю никого, кроме вас; происходит это, несомненно, оттого, что вас преследуют так же, как и меня; да и моя жена никого так не любит, как вас…
Франсуа покраснел от удовольствия.
— Поверьте, брат мой, — продолжал Генрих, — возьмите это дело в свои руки и царствуйте в Наварре. И если вы обеспечите мне место за вашим столом и хороший лес для охоты, я почту себя счастливым.
— Царствовать в Наварре! — сказал герцог. — Но если… герцог Анжуйский будет провозглашен польским королем, да? Я за вас договариваю вашу мысль.
Франсуа с некоторым страхом посмотрел на Генриха.
— Так слушайте, Франсуа! — продолжал Генрих. — Поскольку от вас ничто не скрыто, я выскажу свои соображения на эту тему: предположим, герцог Анжуйский становится королем Польским, а в это время наш брат Карл — от чего храни его Бог! — умирает, то ведь от По до Парижа двести лье, тогда как от Варшавы до Парижа — четыреста: следовательно, вы будете здесь и наследуете Карлу, когда король Польский только еще узнает, что французский престол свободен. После этого, Франсуа, если вы будете довольны мной, вы мне вернете Наваррское королевство, которое будет лишь зубцом в вашей короне; и только при этом условии я его приму. Худшее, что может с вами быть, — это остаться королем в Наварре и сделаться там родоначальником новой династии, продолжая жить по-семейному со мной и с моей семьей. А кто вы здесь? Несчастный, преследуемый принц, жалкий третий сын, раб двух старших, которого по любой прихоти могут засадить в Бастилию.
— Да-да, — ответил Франсуа, — я это чувствую так же хорошо, как плохо понимаю, почему вы сами отказываетесь от этого плана и предлагаете его мне. Неужели у вас ничего не бьется здесь?