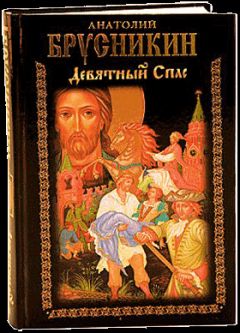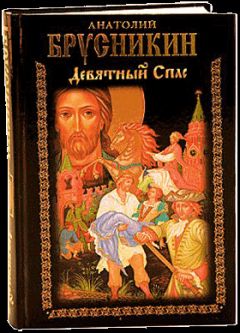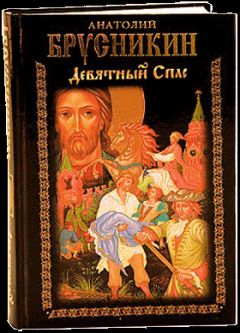Видно, угадав в нём колебание, дева повела себя небывалым для русской барышни образом: схватила упрямца за кафтан и начала трясти.
– Истукан! Бревно бессердечное! Скажешь ты мне правду или нет! Сговорились вы все меня терзать!
«Единственная! Лишь Ей одной такое неистовство к лицу», – восторженно думал сотрясаемый Никитин, по-прежнему храня молчание.
Всхлипывая от тревоги и гнева, она рванула сильней. Затрещала рубаха, из раскрывшегося ворота свесился большой образок на цепочке. Эту иконку, отцовскую память, Дмитрий никогда с себя не снимал.
Взгляд прекрасной Василисы Матвеевны так и впился в конного воина, изображённого на кипарисовой дощечке. Сильные пальцы расцепились.
– Что это у тебя? – шёпотом спросила дева.
– Димитрий Солунский. Покровитель мой.
Чудесные глаза были полны благоговейного изумления.
– Откуда?
Озадаченный Никитин дотронулся до образка.
– От отца. Десять лет ношу…
Вдруг она как всплеснёт руками, как вскрикнет:
– Лицо! То-то помнилось… Так ты мне тогда не приснился! Я тебя узнала!
И бросилась обомлевшему Мите на шею, стала его целовать, орошать слезами, приговаривая:
– Милый мой, спаситель мой… Я и не чаяла, что ты настоящий… То ли святой с небес сошёл сироту защитить, то ли сон приснился… Я ведь полгода проспала и многое, чего не было, видела… Помнишь меня? Помнишь, как девочку от злого карлы спасал? Ведь я это, Василиска, княжна Милославская!
И принялась рассказывать – сначала сбивчиво, потом понятней.
Если Митьша и испытал потрясение, то лишь от её объятий и поцелуев, бросавших его из холода в жар и обратно. Известию же не изумился. Никитин всегда знал, что в жизни ничего случайного не бывает, она наполнена и стройностью, и смыслом, просто не каждый смертный способен сие прозреть. Тридцати одного года от роду рабу Божьему боярину Дмитрию выпала удача познать на себе Всевышний Промысел, невообразимо чудесный в своем неохватном совершенстве.
Разговор был чувствительный, долгий. Младший Зеркалов давно уехал в Преображенское, а Василиса всё не могла нарадоваться нежданной встрече, Никитин же вовсе потерял счёт времени.
Конец сердечной беседе положил слуга, вошедший сказать, что за господином прапорщиком прибыл служивый человек.
В воротах стояла двуколка, которую Дмитрий сразу признал. Узнал он и сидевшего в тележке человека. Это был сержант Журавлёв, которого он давеча видел издали и с которым потом столкнулся в тёмных сенях.
– Поди, наври ему, что господин прапорщик уже уехал, – велела слуге Василиса.
На что Митя не терпел всякой неправды, но в устах княжны и ложь показалась ему восхитительной.
Преображенец слугу выслушал, однако уехать не уехал. Зачем-то попёрся в дом. Челядинец из-за сержантовой спины показал: тебя, мол, барышня, видеть желает.
– Вот настырный, – недовольно молвила Василиса. – Я его быстро спроважу.
Она вышла за дверь, оставив её открытой.
– …Садом он ушёл… Да, только что. Может, догонишь ещё, – доносился до Дмитрия её раздражённый голос. – Почём мне знать, где он коня привязал?
Визгливый голосишко что-то ей втолковывал, но княжна отрезала:
– Ступай, служивый. Недосуг мне.
И Журавлёв ускрипел прочь.
– Знать, надобен я в приказе, – сказал Никитин, когда Василиса вернулась. – Поеду. Свидимся ещё.
Брови барышни были нахмурены. Поёжившись, она обронила:
– Гадкий он какой-то, Цаплин этот… Нет, он назвался «Журавлёв». И смердит от него, как от кучи навозной. Но не в том дело. Знаешь, на кого он похож? На карлу, что меня маленькую похитил и которого дядя за то убил. Усищи вот только…
При воспоминании о страшной ночи Василиса содрогнулась.
– Тот был вот такусенький, а сержант с меня ростом, – улыбнулся Дмитрий. Напуганной она ему тоже очень нравилась. – Право, пора мне. Автоном Львович огневается.
– Пускай его гневается. Скажешь – я не отпустила. О скольком ещё не говорено!
Обращенный на Митьшу взгляд был так нежен, что воля в Никитине размягчела и стала таять, как воск в лучах солнца.
– Разве что четверть часа ещё… – пролепетал Дмитрий.
Сия последия ночь – ночь вечна будет мне:
Увижу наяву, что страшно и во сне.
А.П. Сумароков
Гвардии прапорщик Попов лежал на жёсткой койке в гошпитале Святого Иоанна, что в Немецкой слободе. Члены его были вытянуты, глаза зажмурены. Притворщик изображал глубокий обморок и потому время от времени издавал прежалобные стоны – всякий раз, когда чувствовал, что в комнату кто-то зашёл.
А посмотреть на приезжего человека, расшибшегося при падении с лошади, заходили многие, особенно, когда наступило утро. Развлечений на Кукуе было не столь много, а тут какое-никакое событие.
Объявления висели во всех заметных местах с вечера, так что некоторые успели побывать в гошпитале и ночью. Алёшка сильно надеялся, что искомые персоны, тревожась о своём гонце, а более того о секретной шкатулке, примчатся первыми и долго валяться ему не придётся. Ночью в комнате горело две свечки, и в сумраке ловец мог подглядывать за вошедшими.
Вещи мнимого лейтенанта фон Мюльбаха были разложены на столе: пашпорт и подорожные бумаги, два пистолета в седельных кобурах, вынутый из ботфорта стилет, сами ботфорты, шпага, кошель и прочее, в том числе и шкатулка с бабочкой.
При расшибшемся неотлучно состоял доктор Серениус, свой человек, на тайном жалованье у Преображёнки. Ежели «раненого» опознают да заберут, он сразу даст знать, кому надо. Попов же, как сыщик опытный, должен был действовать на свой разум и страх, по обстоятельствам.
Поначалу Алексей на каждого зеваку думал: вот он, голубчик, клюнул! Особенно один ливрейный слуга, по виду из хорошего дома, вёл себя многообещающе. Долго вглядывался в лежащего, пялился на бумаги и вещи, шкатулку даже потрогал, но ушёл, так ничего и не сказав.
Ну а начиная с утра, как уже было сказано, любопытствующие потянулись сплошной вереницей.
На вопросы Серениус всем отвечал одно и то же. Мол, сей человек отшиб себе голову, отчего с ним мог приключиться отёк в мозгу. Отёк либо сойдёт сам собой, и тогда больной очнётся, что может произойти в любой секунд; либо же отёк затвердеет, и в сём случае исход печален. Один этак вот пролежал два года, сохраняя из всех примет сознательной экзистенции лишь способность к глотанию, однако потом всё равно помер.
Мужчины качали головами. Женщины ахали.
Всё это Лёшке до смерти надоело. Тело у него задеревенело от неподвижности, шевелиться же доктор не дозволял. В двенадцать, правда, обещал сделать перерыв: запереть дверь, чтобы «бесчувственный» мог поесть-попить и немножко размять члены. Поэтому Попов ждал полудня, как иудеи ожидают пришествия Мессии. Но его мука окончилась раньше.