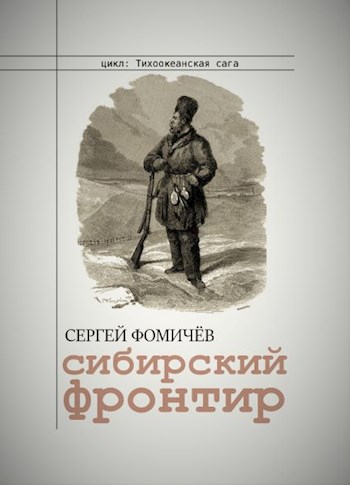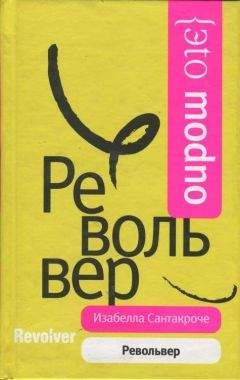от крови. Кость походила на рыбную. Вряд ли она осталось от обеда, если только Оладьин не вздумал закусывать дротиками.
–Шить умеешь? – спросил я Чихотку.
–Паруса шил, – ответил тот.
–Ну, тогда тебе и карты в руки.
Следуя инструкции, Чихотка подержал в кипятке иглу с ниткой. Я как мог свёл пальцами края раны.
–В стык сшивай, – сказал я, увидев, что матрос собрался латать кожу внахлёст.
Чихотка кивнул и принялся зашивать брюхо. Получалось плохо, неровно, рана сочилась кровавой жижей. Обжигаясь, я хватал из кипятка тряпки, отжимал и промокал ими рану, поливал из кружки самогоном и вновь промокал. Тряпки помогали плохо, и я догадался убирать кровь с помощью снега, который впитывал её не хуже тампонов.
Когда мы наложили последний стежок, Оладьин вдруг пришёл в себя. Посмотрел на нас сумасшедшим взглядом, взревел, а затем его начало корчить.
–Держать! – гаркнул я. – Помогите кто–нибудь!
Дюжина рук припечатала Оладьина к столу, а я поднёс к его губам кружку с самогоном.
–Всё будет в порядке, братишка, – шепнул я. – Заштопали мы тебя.
Он сделал короткий глоток, остальное выплюнул. Затем пытался что–то сказать.
–Не разговаривай, Вася, – перебил я. – Не дёргайся, лежи спокойно.
Остатки снега я вывалил в тряпки и уложил одну на лоб, другую на живот Оладьина. На короткое время он вроде бы успокоился. Лежал с открытыми глазами смирно, часто и тяжело дыша. Затем вдруг выгнулся в судороге и испустил дух. То есть буквально испустил – его последний выдох получился протяжным и каким–то тоскливым. Я попытался нащупать пульс, затем стал массировать сердце, но все эти средства здесь очевидно не годились.
–Отошёл, – перекрестился Чихотка.
–Что? – я посмотрел на матроса как на предателя.
Он даже попятился, увидев в моей руке нож. Но на Чихотку я больше не смотрел. В глазах появились слёзы. В первый момент мной овладела досада от напрасных усилий. В раздражении я запустил ножом в стену. Почти сразу вслед за этим пришло осознание потери. Оладьина я считал одним из немногих друзей в этом мире.
Меня охватила дрожь. Хотелось усесться на пол и заплакать и одновременно с этим захотелось куда–то бежать, кого–то душить, терзать. Гнев перевесил отчаяние.
Взбешённый я выскочил из казармы и помчался к амбару, где Комков разместил пленников. Растолкав охрану, окровавленными руками выхватил из кучки туземцев того самого вождя, что предложил поединок Оладьину, и которого я посчитал виновником его гибели.
–Тёму сюда! – бросил я охранникам. – Говори! – набросился на алеута.
Вождь попытался сохранить лицо, но моё безумство пробило невозмутимость. С сумасшедшими не рисковали связываться и дикари.
–Этих всех увести! – мимоходом распорядился я, когда вождь заговорил.
Охранники выполнили приказ с таким рвением, будто я собирался после врага взяться за них. Тёма, быстро оказавшийся рядом, начал было переводить, но я оборвал его.
–Запоминай, не давай ему остановиться.
После этого мне оставалось только рычать, и вращать глазами, усиливая громкость, когда пленник делал слишком большие паузы. Приняв игру, Тёма сам задавал уточняющие вопросы, а когда вождь замолчал, изложил мне суть дела.
–Он говорит, что бородачи ещё осенью пришли к ним на Унимак на огромной лодке и разорили селение его родичей. Поубивали не только воинов, но и многих женщин, детей. Те, кто выжил, пришли к ним. Тогда мужчины решили отомстить. Но пока собирались, корабль ушёл, и месть не состоялась. Однако позже один из них гостил на Уналашке у дальней родни и неожиданно встретил обидчиков здесь. Он подговорил родичей и они напали на промысловую партию. Затем охотник вернулся домой на Унимак и рассказал о селении бородачей. Он рассказал и о том, что бородачи сошлись с давними врагами кигиг–ун – племенем кавалан–ин. Давно между ними не случалось столкновений, и у многих воинов чесались руки. Так что месть послужила хорошим поводом для похода. Они долго собирали воинство, кликнули союзников кутхин. И, наконец, собрав мощные силы, выступили, чтобы довершить мщение.
–И сколько же воинов отправилось в поход? – спросил я, свирепо поглядев на пленника.
Тёма не стал переводить вопрос туземному вождю. Похоже, он уже знал ответ, но почему–то помедлил с ним.
–Ну? – рявкнул я.
–Дважды по двадцать двадцаток воинов, – выдохнул он.
Мозги заскрипели, переводя вычурное число в десятеричную систему счисления.
–Восемьсот что ли получается?
Тёма пожал плечами. Он плохо воспринимал нашу арифметику.
–Но на крепость напала от силы пара сотен, – подумал я вслух. – А где же в таком случае остальные?
У Тёмы имелся ответ и на это.
–Кто–то погиб в море, другие ещё не переправились на Уналашку, – сказал он. – Но значительная часть пошла войной на кавалан–ин. Остальные посчитали, что малых сил достаточно для взятия крепости.
–И также очевидно, что, поняв ошибку, они постараются её исправить, – заключил я. – Восемь сотен мы можем и не отбить.
Следовало безотлагательно заняться обороной, но раз уж пошли ответы, я решил выяснить всё до конца. Из всей флотилии на Унимаке вставал только "Николай" и что его команда там безобразничала, мы догадывались давно, хотя николаевские молчали. Однако среди них имелось с десяток парней, каких покойный Оладьин охарактеризовал как приличных. Далеко не все из них соглашались с Тарабыкиным. На людях, они понятно продолжали стоять друг за друга, но на начальника, судя по поступающим сведениям, всё чаще косились с недоверием. Этим следовало воспользоваться, и я послал охранника за одним из них – за Ворониным.
–Что вы там устроили осенью? – сразу набросился я на парня. – Пленный тойон утверждает, что целое село вырезали.
Воронин молчал.
–Пойми, – сказал я ему. – Ты Тарабыкина выгораживаешь, Трапезникова, но взамен наши головы подставляешь. То, что на крепость сейчас напали – результат вашего озорства на островах. Вы там здорово разозлили алеутов. Там поднялось всё население. И с соседних островов подкрепление пришло. Сюда стягивается целая армия.
Воронин продолжал молчать, но по выражению его лица, я догадывался, о чём он размышляет. Парень не хотел сдавать начальника. Каша заварилась серьёзная, да и к Тарабыкину он симпатии не питал, однако считал, что закладывать соратников как–то нехорошо. Один из парадоксов России. Даже в периоды расцвета стукачества, общественная мораль считала донос постыдным. В чём тут дело? В доминировании криминальной культуры? В кодексе молчания, распространённом далеко за пределы мафиозных кланов? Быть может народ всегда ощущал себя по ту сторону баррикад от власти? А откуда