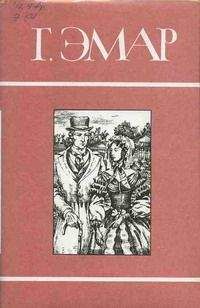День двадцать седьмого июля 1840 года выдался мрачный и холодный. Теплота и блеск солнечных лучей задерживались массами желтоватых облаков, насыщенных водяными парами и гонимых ветром с головокружительной быстротой. Жители Буэнос-Айреса, дрожа от холода и закутываясь по самые глаза в свои плащи, спрашивали друг друга, уж не вернулась ли опять зима, бывшая весьма суровой и окончившаяся всего несколько недель тому назад.
Около пяти часов вечера в гостиной богатой кинты в Барракасе находились двое — молодой человек и молодая женщина. Женщина, прекрасная и мечтательная, сидя на софе возле камина, слушала молодого человека, который, почти склонившись к ее ногам, переводил ей одну из самых прекрасных страниц «Собора Парижской Богоматери», этого образцового произведения Виктора Гюго.
Временами прелестная мечтательница склонялась вперед, слегка опираясь своей рукой о плечо молодого человека, тогда его щек нежно касались шелковистые пряди ее роскошных волос, а она, застыв в этом грациозном положении, отдавалась своим мыслям, убаюкиваемая мелодичным голосом человека, которого она любила.
Молодой человек и молодая женщина питали друг к другу чистую, святую любовь. Его звали дон Луис Бельграно, ее — донья Эрмоса Сайенс де Салаберри.
Уединение молодых людей вскоре было прервано — послышался стук подъехавшего к дверям кинты экипажа, и минуту спустя в гостиную вошли мадам Барроль и ее дочь, их хорошие знакомые.
Донья Эрмоса и дон Луис еще сквозь жалюзи увидели приехавших, но так как у молодых людей не было тайн от них, то дон Луис просто бросил книгу на подоконник и сел в кресло.
В то же самое время вошел, или лучше сказать, вбежал в гостиную, по своему обыкновению, дон Мигель, кузен Эрмосы, живой, ласковый и веселый юноша. Этот бравый молодой человек, находился ли он в обществе своей кузины или доньи Авроры Барроль, к которой питал глубокую любовь, забывал все свои дневные заботы, не думал более о своих честолюбивых планах и вполне давал волю своему веселому характеру.
— Кофе, кузина, кофе! — вскричал он. — Мы умираем от холода, мы нарочно встали из-за стола, чтобы прийти сюда пить кофе, впрочем, это благое намерение принадлежит мне всецело, и нашим визитом, кузина, ты не обязана ни мадам, ни ее дочери, а лишь одному мне!
— Ты просишь слишком мало за ту услугу, которую оказал мне, — весело отвечала донья Эрмоса, обняв обеих дам, — и поэтому рискуешь не получить просимого!
— Не верьте ни одному его слову, дорогая Эрмоса! Мне одной пришла мысль об этом визите, а этот лентяй сидел бы до завтрашнего утра у камина, — проговорила, смеясь, мадам Барроль француженка чистой крови, парижанка с головы до ног, которая несмотря на свои сорок два года все еще была прелестна.
— Хорошо, допустим, что я говорил не так убедительно, как мадам Барроль; но все же никакая человеческая логика не может из этого вывести заключения, что я должен пить кофе только по пятницам.
— Дорогая Эрмоса, умоляю вас, — проговорила мадам Барроль, — прикажите скорее подать ему кофе, а то он весь вечер только и будет говорить, что об этом противном напитке!
— Да, Эрмоса, дай ему кофе, дай ему все, что он у тебя попросит, мы увидим, по крайней мере, заставит ли это его
немного помолчать; сегодня он положительно несносен! — сказала, повернув слегка голову к Мигелю, донья Аврора, которой дон Луис показывал альбом, недавно выписанный из Франции.
Слуга дона Луиса по приказанию доньи Эрмосы отправился сервировать кофе.
— Какую книгу вы там перелистываете? Она вас интересует, по-видимому? — спросил дон Мигель.
— Лорда Байрона, — сумасшедший ты человек! — отвечал дон Луис, показывая молодой девушке портрет дочери поэта.
— А, Байрон! — проговорил, смеясь Мигель. — Он не пил кофе под предлогом, что это был любимый напиток Наполеона, поэт не ненавидел Наполеона, наоборот, он им восторгался, но был ревнив: слава великого завоевателя беспокоила его, а он не признавал другой славы, кроме своей собственной. Надеюсь, что теперь я говорю разумно?
— Да, впервые за весь вечер! — отвечала донья Аврора.
— Что не всегда случалось с великим поэтом, — если бы он всегда поступал разумно, то, вместо того чтобы только сильно любить свою жену, которая считала его сумасшедшим, он удержал бы ее и не влачил бы того жалкого существования, в котором он находился с тех пор как она его покинула.
— Я этого не понимаю! — сказала донья Аврора.
— Да и никто не понимает! — прибавила донья Эрмоса.
— Я хочу сказать, — отвечал Мигель, что если бы моя жена сочла меня сумасшедшим по той простой причине, что я в упоении поэтическим творчеством бросил свои часы в огонь, и под этим предлогом убежала бы от меня, как это сделала жена Байрона, то я, вместо того чтобы писать ей кучу писем…
— Что бы вы сделали? — живо спросила донья Аврора.
— Я сделал бы то, что испробовал бы всякий добрый испанец в подобном случае… Но прежде скажи мне, Луис, что сделал бы ты?
— Я?!
— Да, ты, если бы любимая тобою жена убежала от тебя.
— У кого же искать лучшего примера, как не у Байрона, — писать ей, пытаться вернуть ее на добрый путь, покинуть который ее заставила минута заблуждения.
— Ба-а! Плохое средство!
— А что же сделал бы ты?
— Я? Я сел бы в экипаж, если б экипажа не было, — на коня, если б не нашлось коня, пошел бы пешком к тому дому, где скрылась беглянка, взял бы ее тихонько за руку, сказав людям, находившимся там: «Дайте дорогу, сеньоры, это моя жена, и я увожу ее с собой».
— Но если бы она отказалась уйти, кабальеро? — спросила донья Аврора.
— Тогда… ясно, что я остался бы возле нее, даже если б хозяева выпроводили меня из своего дома, я бы не вышел оттуда один. Но… где же кофе, сеньоры?
В это время вошел слуга и доложил, что кофе сервирован в смежном кабинете. Все переместились туда, и, когда расселись, разговор возобновился.
— Как жаль, — воскликнула мадам Барроль, — что дон Мигель не был в Константинополе!
— Правда, сеньоры — отвечал, смеясь, молодой человек, — там кофе пьют дюжинами чашек, но я дал себе слово более не путешествовать.
— В особенности, если для путешествия в Константинополь придется плыть в лодке! — сказала значительно донья Эрмоса.
— И, возвращаясь к себе, провести половину ночи в воде по самую шею! — прибавила донья Аврора тоном упрека.
— И рисковать быть принятым каким-нибудь усердным таможенником за контрабандиста! — заключил дон Луис.
— Ого! И ты туда же, мой друг! Правда, что ты самый благоразумный из путешественников, которых я только знаю, и никто лучше тебя не умеет пуститься в дорогу, рискуя столь малым!