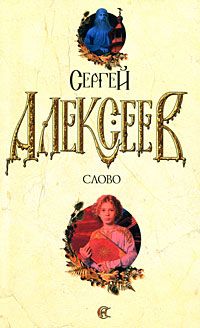Это был высокий порог, через который следовало перешагнуть, ибо нога уже занесена.
Начать щекотливый разговор Анна решила на покосе — место подходящее: воля, травы кругом, лес пошумливает, птицы поют. По их, лесных жителей, логике, на душе должны быть покой и благость. Но как не хватает здесь Зародова! Его бы сейчас заставили косить — он родом деревенский, умеет, — а они бы с Марьей сели в тенек да и поговорили. Но Марья, подгоняемая крестьянской заботой, косила прогон за прогоном, жадно пила воду из бидона, перевязывала потный платок и снова бралась за косу. Анна не косила — рубила траву, сшибала макушки и безнадежно отставала.
— Ничего, доченька, — успокаивала Марья. — День помучаешься, потом пойдет. У нас косить не учат. У нас с малолетства дают литовку и к траве подводят.
Но и от ласковых слов легче не было. Пот выедал глаза, палило солнце, вздувшаяся на большом пальце мозоль лопнула. Коса дребезжала по макушкам быльника, глухо втыкалась в землю, и в иное мгновение Анне хотелось убежать с лугов, как недавно убежал Лука Давыдыч из Макарихи.
В самый солнцепек Марья повесила косу на дерево:
— Кончай ручку, доченька, да иди в тенек. Пожалеть себя надо.
Но пока Анна заканчивала прогон и возвращалась назад, Марья уснула под деревом, разбросав руки и прижавшись щекой к колючей стерне. Анна принесла охапку травы, подложила ей под голову, постелила себе и пристроилась рядом. Земля качнулась под ней, на несколько минут перед глазами возникли лезвие косы и бесшумно падающая трава, затем все исчезло в сладком, обволакивающем сне.
Проснулась она оттого, что рядом кто-то сидел. Не открывая глаза, подумала и обрадовалась: Зародов! Явился беглец, «бурундук-птичка»… Сидящий тяжело дышал, подкашливал от жажды и усталости. Солнце било в лицо: тень, пока она спала, переместилась. Открывать глаза было трудно, но и сквозь щелки век, сквозь солнечное пятно она сразу узнала сидящего — Леонтий!
Анна приподнялась, оглянулась на спящую Марью Егоровну.
— Не пугайся, красавица, и старушку не тревожь, — сказал Леонтий. — Айда к озеру, посидим на бережку, побеседуем. Около воды-то не так жарко. А то солнце ишь как жжет! По всей земле нынче так… Газеты пишут, в Бангладеш все колодцы пересохли, жажда людей обуяла…
Анна нащупала под рукой брусок на деревянной рукоятке и, прежде чем встать, незаметно сунула его в голенище бродня. И, вставая, еще раз пожалела, что нет рядом в общем-то хорошего парня Вани Зародова…
Исчезли Иван Зародов и старик Петрович при обстоятельствах для них самих неожиданных. Впрочем, они собирались исчезнуть, то есть пойти по брошенным таежным заимкам и зимовьям, где, по словам Петровича, уже лет пятнадцать-двадцать валялись никому не принадлежащие книги. По одной, по две, а кое-где и до десятка, но если даже и без десятков, то получалось совсем не плохо, если обойти все заимки, Иван даже прикинул такую ситуацию, что половина найденных книг окажется малоценной, по сути, бросовой, зато в другой половине что-нибудь да будет. Этот вариант лучше, надежнее, считал Зародов, чем торчать в Макарихе, обхаживать старух и ждать у моря погоды. Он был не против старушек, к тому же любил стариков вообще, любил с ними разговаривать, работать и верил, что Анне когда-нибудь удастся взять у них книги. Перед женщиной с таким азартом и напором вряд ли устоят кержачки. Да и сама-то она чем-то похожа на них… Но, устроившись жить у Петровича, в первый же день Иван нашел с ним общий язык и узнал о брошенных книгах на заимках. Это был козырь. Не то чтобы против методики поисков и сбора. Просто ему хотелось показать Анне, что приехал он сюда не дрова колоть и выполнять мелкие поручения и, что кроме ее методики существуют другие способы, не менее надежные, но более простые. А то ведь Анна уперлась в одни двери, ломится и ничего вокруг больше не видит. Стань с ней разговаривать — велит молчать. Он же, пока Анна возится со старухами, уже добыл книгу. Не беда, что купил у вербованных, но вот она, старообрядческая рукопись восемнадцатого века, нравоучительный сборник, наверняка с дополнениями переписчика. Уже не с пустыми руками! Вот тебе и бурундук-птичка…
А еще это был козырь в работе с директором музея Оловянишниковым. Тот пытался загнать его в этом году в деревни для скупки у населения прялок, самоваров, коробок — короче, дребедени, которой и так запасники завалены. Иван же, филолог, защищавший диплом по древнерусской литературе, едва узнав об археографической экспедиции, стал проситься в нее. Директор согласился послать в экспедицию Зародова, но с условием, что он привезет книг не менее чем на десять единиц хранения.
Зародов со стариком Петровичем собирались отправиться по заимкам, но собирались после покоса. Надо чем-то мерина всю зиму кормить, да и Марьина корова не святым духом питается… Вышло непредвиденное.
Вскоре после возвращения Анны из Еганова Иван пришел хмурый.
— Чего так, паря, кручинишься? — спросил Петрович. — Я в твои лета соколом смотрел!
— Да, — отмахнулся Иван. — Моя… сестренка, пилит. Пришла злая и на меня…
— Они такие, — понимающе сказал Петрович, — Куда денесся? А давай, паря, истопим с тобой баню, а женщин не позовем? Попаримся и медовушки испробуем. Должно быть, поспела.
Баню истопили — в жаркую погоду долго ли? — попарились березовыми вениками с крапивой и уселись в предбаннике в чем мать родила пить медовуху. Сначала разговор будто завязался. Иван увидел багровый шрам на животе старика, спросил, откуда.
— С фронту, — махнул рукой Петрович. — Откуда еще.
— Ох ты, — сказал Иван. — Чем так?
— Осколком, — объяснил старик.
Медовуха сначала хорошо пошла, в голове просветлело, банный жар в теле поутих, но чуть вспомнил Иван разговор с Анной, и как противно на душе стало. Хоть и в самом деле собирайся и езжай по деревням прялки да самовары собирать, чтобы лето не пропало.
Петрович это заметил, налил еще по ковшу, по спине похлопал:
— Да брось ты, паря! Эка беда! Что ж мы с тобой, книг не найдем, что ли? На-айдем! Ты меня послушай, я лучше про разведку тебе расскажу. Как мы немца живьем брать ходили…
Петрович, видно, позвал Ивана к себе от тоски: надоело сидеть одному, ни поговорить, ни рассказать, и вот теперь, наверстывая упущенное, старик рта не закрывал. А сначала показался таким нелюдимым, молчуном.
— А было так, паря… Меня как взяли на фронт, бороду-то сняли. Пережиток, говорят… Какой пережиток, коли сама растет? Это мода всякая — пережиток… Хвачусь — нет бороды, и так, паря, тоскливо было. Пообтерся маленько в пехоте, пошел к ротному. А мне тогда уже первую медаль дали — «Отвагу»… Чуток заикнулся, ротный ни в какую! Я те дам, грит, бороду! Я ж смекалистый. Пошел к комбату, и тот — хоть убейся. Нет, и все… Тут мне вторую «Отвагу» дают, из рук самого комполка…