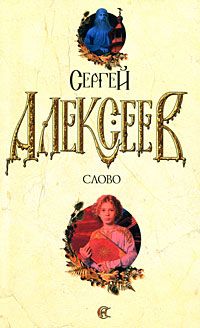Он выглянул в оконце. Петрович уже встал с земли и, как-то странно ступая, направлялся к мерину. То, что он увидел в следующую минуту, удивило и приковало к окошку.
Петрович не спеша подошел к мерину, погладил его по холке и вдруг полез ему под брюхо. Схватив его руками за передние ноги, старик уперся спиной в толстый, обвислый конский живот и, напрягшись, стал поднимать мерина. Тот, покорно опустив голову и вздрагивая кожей, обвис на Петровиче, как мешок с песком. Петрович поднял его раз, другой, третий — побагровел, как в бане, жилы вздулись на лбу, глаза кровью налились! «Что-то с мерином стряслось!» — испугался Иван, однако мерин, когда старик ставил его на землю, норовил ущипнуть травы и выглядел вполне здоровым. Иван не выдержал, выскочил на улицу.
— Петрович, ты что? Что с тобой?!
Старик выбрался из-под лошади, смущенно улыбнулся, покряхтел.
— Знаешь, паря, и сказать-то грешно… После медовухи меня плоть мучает. Вот я ее так и смиряю…
Иван, забыв о неудаче, расхохотался.
— Так ты бы женился, Петрович! К Марье вон бы и посватался!
Старик отер испарину на лбу, сказал решительно и строго:
— Нельзя мне, паря, нельзя.
Иван смутился, почувствовал, что за живое задел старика, за что-то тайное, хранимое от чужих глаз и ушей. Петрович с удовольствием рассказывал о довоенной жизни, о фронте, но дальше словно у него и жизни не было. И о детях никогда не поминал…
— Ну что, паря, взял книги-то? Если взял — поехали, — сказал Петрович. — Тут недалеко еще одна изба есть…
— Нету книг, — отрезал Иван. — Обрывки только собрал.
— Ты плохо искал, паря, — врастяжку проговорил старик. — Айда, поглядим… Я зимой видал — лежат.
Вместе с Петровичем они еще раз заглянули в избу, старик с ходу прошел за печь, сунулся в темный угол — пусто…
— Здесь были! — удивленно сказал он. — Вот так, одна на одной, лежали, по-моему, четыре… Я еще их пощупал, поглядел, пускай, думаю, лежат… Охотничаю я тут…
Он был настолько обескуражен, что Ивану показалось, вот-вот заплачет — борода затряслась и глаза повлажнели.
— Выходит, обманул я тебя, паря… Во как…
— Вербованные, сволочи! — ругнулся Иван. — Сожгли, наверное! — Петрович молча покачал головой и побрел на улицу. Иван вышел за ним, присели на прогнившем крыльце.
— Во как, паря, — повторил он. — И хлеба-то у нас боле нету… Да ничего, не пропадем, поди, а?
— Надо было хоть ружье взять, — пожалел Иван. — Тетерева летают.
— А ружье я сейчас принесу, — сказал старик. — Тут у меня припрятано… Раньше все оставлял в избе, а теперь не оставь… Тут как-то мужик один приезжал, Никита — одноногий, обещал мне ружьишко привезти, чтоб малопулька была и дробовик…
— Никита Евсеич Гудошников, — объяснил Иван, оживляясь. — Знаю я такого…
— Знаешь? — обрадовался старик. — Чего же он не едет-то? Сулился скоро, а нету. Ты поедешь в город, скажи ему, что Петрович ждет. Я его тоже хотел по избам повести, на мерина посадить да повести. Он-то, Никита, шибко тоже книгами интересовался… Мы с ним, как с тобой, в баньке как-то раз попарились, медовушки попили, и тут меня это, — он замялся, покраснел, — плоть взяла. Давит, и все. Ну, я меринка-то поднял… А Никита, — старик засмеялся, — говорит: то ль мне тоже сходить поднять?.. Во как, паря!
Старик помолчал.
— Может, вернемся? — спросил Иван. — Без толку по тайге шататься.
— Э, нет, — запротестовал Петрович. — В жизни людей не обманывал. Как вернемся, если не нашли? Пойдем дальше, искать будем. Найдем!
Он принес ружье, патроны, перетряс их возле уха, рассортировал и сложил в карманы. Потом заседлал мерина, подвел его к Ивану:
— Садись, паря. Раз я тебя обманул — мне и пешим идти.
— Нет-нет, не сяду! — Иван замотал головой. — Я так… Я молодой. Ты садись.
— И я не сяду, — сказал старик.
Мерин облегченно вздохнул…
Следующая заимка стояла в таком глухом углу, что, по словам Петровича, и медведи-то жить там боялись, скучно шибко. Шли до нее весь остаток дня, переночевали на берегу речушки и добрались только к вечеру. Всю дорогу старик отчего-то был молчалив и печален. Шагал он скоро, иногда так, что ни мерин, ни Иван не поспевали. Мерин шел не на поводу, так, будто собака, следом тащился. По пути старик добыл глухаря, линяющего и не способного летать, и тут мерин показал свою охотничью прыть. Едва прогремел выстрел, он бросился к бьющемуся глухарю, схватил его за крыло и придавил к земле. Иван развеселился.
— Э, паря, он еще маленько поживет со мной и лаять научится, а может, по-человечьи говорить, — отчего-то печально сказал Петрович. — Мы же с ним месяцами в тайге вдвоем живем…
Недалеко от заимки мерин неожиданно взбунтовался. Вскинул вечно висящую голову, заржал, сверкая просветленными, синими глазами, и ударился в галоп. Он мчался по мелколесью, сминая деревца и прыгая через колодник, неожиданно резко останавливался, делая резкие скачки в сторону, и чуть не расшиб седло, угодив под наклоненную березу.
— Что это он? — изумился Иван. — Гнус, что ли, заел? Или медведя чует?
Старик усмехнулся невесело:
— Я и сам, паря, не знаю… Бывает с ним. А что — не говорит. Может, тоже плоть его мучает? Может, мужскую силу-то в нем сгубили, когда выкладывали, а в душе осталось…
Он сел на колодину, поглядывая, как бесится мерин, и вздохнул.
— Отдохнем, паря, тут уж рядом заимка… Жил я тут, скоро после войны поселился, с Катериной своей да с меринком вот. Он тогда жеребчиком еще был…
…Отгулял свадьбу Петрович в Макарихе, отплясал с невестой, а вскоре заколотил свою избу, и отправились они с Катериной жить на заимку.
Женился Петрович поздно, в Макарихе считали, так холостым и проживет до смерти. Говорили, что порок в нем есть скрытый, будто кто-то слышал, как он кричит по ночам и мечется. Он же пришел с фронта, гармонь немецкую привез и, как татарин стал, лба не перекрестит, к тому же взял и женился. Да не на своей деревенской, а на молдаванке из сосланных кулаков. Было Петровичу тогда за сорок, а жену он взял молодую. Катерине и тридцати не исполнилось. И жили бы, наверное, в деревне всю жизнь, и не понесло бы их на глухую заимку, да не всем в Макарихе жена Петровича ко двору пришлась. И отец, Мирон, как узнал, что дочь замуж за кержака собирается, за «кацапа», из дому прогнал. Месяца не прожили, Катерина жаловаться начала, что местные старухи при встрече плюнуть на нее норовят, ругаются: дескать, Петровича в грех ввергла, от веры отлучила, змея подколодная. Петрович, выпив медовухи, тех старух пристращал, пообещал языки самолично поотрубать и с тех пор стал с Катериной под ручку по деревне ходить. Старухи примолкли, однако повесит Катерина белье сушить, а его кто-то грязью либо дегтем обрызгает.