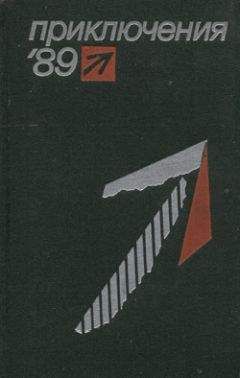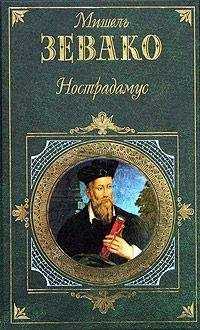— Где Косач, Ковенчук, и кто наводил тебя из наших? — в упор спросил Мотя.
— Убей! — присвистывая, прошептал Ковенчук. — Пристрели, сволочь! — с яростью проговорил он, и пена выступила на его губах.
— Слушай меня внимательно, Степан, внимательно слушай' — заговорил, стиснув зубы, Мотя. — Часы твои сочтены, мы тебя и до больницы довезти не сумеем, по дороге сдохнешь, поэтому сделай перед смертью доброе дело, скажи, где Косач и кто тебя наводил?
— Тьфу! — просвистел Степан, дохнув в лицо Моте горячим воздухом, и торжествующая улыбка осветила бандитское лицо. — Следом за мной придут другие, Косач найдет, воспитает, а ты сдохнешь, крыса красная!.. Всё!
Он повернул голову набок и замолчал. Мотя вышел из будки. У входа стоял Матвей-старший.
— До больницы и вправду не довезти, — согласился он, кивнув на Ковенчука. — А Котин, сволочь, убит. Жалко…
— Как Машкевич?..
— Да ничего, кость, говорит, не задета…
— Иди перевяжи! — приказал Левушкин. — Машину водить умеешь?..
— Нет… — вздохнул Матвей.
— Я тоже, — усмехнулся Мотя. — Может быть, Семенцов догадается…
— А с этим что?.. — Матвей кивнул на будку. — Час протянет, не больше, кровь идет сильно… Может быть, тоже перевязать?..
— Я ещё поговорю с ним, — перебил Матвея-старшего Левушкин.
Матвей ушел к машине. Сколько же времени? По солнцу судить: пять, шестой. Час протянет… Получается, что Ковенчук один и знает, где Косач и кто наводчик, А деньги у Косача. Тысячи рублей государственных денег, сбережений, заработанных потом и, кровью…
Мотя вернулся в будочку, сел рядом с Колекчукам.
— Последние просьбы есть?..
— Пристрели, — прошептал Ковенчук.
Лицо у него уже побелело, вытянулось, заострился нос.
— Что передать Путятину?..
На лице Ковенчука мелькнула брезгливая гримаса.
Мотя вдруг вспомнил. Собственно, это он и хотел вспомнить. И теперь улыбнулся, и Ковенчук заметил в нем перемену.
— Ну, зараза! — облегченно вздохнул Мотя. — Значит, просишь пристрелить?..
Не имея опыта, мало ещё что понимая в сыскном деле, Мотя шел к бандитской тайне ощупью, как и любой новичок, наблюдая теперь последние минуты жизни бандита, который причинил столько страданий и слез людям. Мотя сознавал, что должен вырвать из его груди эту тайну, что без неё он не мог возвратиться.
— А как с дочкой быть? — наконец проговорил Левушкин — Кто заботиться о ней будет?..
Степан вздрогнул, взглянул на Левушкина.
— О Нинке, Нинке твоей речь, не смотри на меня так, поздно, Степан… — Мотя достал папироску, закурил. — Нинка тебя принимала, укрывала, деньгами ты её ссужал, да, понимая, что век твой недолог, щедро, видно, одарил. Найти нам их ничего не стоит, у Нинки признание взять тоже труда не составит, да и старуха Суслова подтвердит… И что в итоге? Нинка по этапу, дочь в детдом, пропадет ведь, а Нинка вряд ли за ней воротится, сам знаешь, какие бабы из тюрем возвращаются… А тут, если поможешь, обещаю: о ребенке позабочусь!
— На воспитание, что ли, возьмешь? — как бы усмехнулся Ковенчук.
— А хоть и так! Только в нашем, советском, духе воспитаем! Надеюсь, и у тебя ума хватит, чтобы понять: всё, спета ваша бандитская песенка! Нет вам больше дороги, последние дни преступность доживает. Поэтому нормальной гражданкой своей страны будет! И ты, сделай милость, оставь надежду ей на эту новую жизнь, не тащи её за собой в могилу!
Мотя не жалел слов, чувствуя, с каким напряженным вниманием слушает его Степан.
— Поклянись, что дочь не бросишь?! — потребовал вдруг Степан.
— Клянусь! — выпалил Мотя.
— Нет, ты своим Лениным поклянись! — помолчав, потребовал Ковенчук.
— Что, так не веришь? — усмехнулся Мотя.
— Не верю! — отрезал Ковенчук.
Мотя задумался. Клясться именем вождя в таком деле Левушкину не хотелось. Но не было у него другого выхода.
— Клянусь памятью Ленина, что дочь твою не брошу! — ответил Мотя.
Сидя здесь, в будке, он хотел только одного: вернуться домой, разом покончив со всей бандой. Конечно, давая клятву, он ещё даже и не думал о том, что её надо будет выполнять. Ведь и «расстрел» бандита был просто-напросто сыгран. Мотя и сам не мог понять, как это всё у него получилось, вроде он ведь и себя не помнил от горя, а выходит, что и помнил, и даже контролировал свои поступки. Поступки, но не слова.
Ковенчук молчал
— Ну что молчишь? Я всё сказал! — заторопил его Мотя
— Дай курнуть, — прошептал Ковенчук.
Мотя прикурил папироску, передал Степану. Тот затянулся, закрыл глаза.
— Ну что ж, жаль, не договорились! — Мотя поднялся. — Я думал, ты умнее и жизнь дочери тебе дороже, чем этот чертов Косач!
— Сядь! — прошептал Ковенчук. — Я умру спокойно, если буду знать, что дочка моя… — Степан долго молчал. — Пусть она никогда не узнает обо мне. Пусть ничего не знает. Мы встретимся там…
Левушкин молча слушал.
— Я скажу, скажу, — заволновался Ковенчук, — Я скажу… А ты сдержишь слово?.. — Степан с такой поразительной силой взглянул на Мотю, что он вздрогнул.
— Я же сказал, Степан! — пожал плечами Левушкин.
— Косач живет… — Ковенчук запнулся. — Сейчас он здесь, неподалеку, версты четыре от Серовска. Село Казанка, Прохор Ильич Артемов, в его доме… ждет…
— Вооружен?..
— Пушка обычная…
Степан закрыл глаза.
— А наводчик?.. — нетерпеливо спросил Мотя.
— В исполкоме секретарь, бывший адвокат Княжин и с ним связан ваш… Вахнюк… — прошептал Ковенчук.
Это были его последние слова. Мотя выскочил из будки. Матвей-старший сидел на подножке грузовичка, курил, рядом на земле лежал Машкевич.
— Ну что, Тихон? — спросил Мотя у Машкевича.
— Всё в порядке, — вздохнул он. — Поучаствовать только опять не пришлось!..
— Это мне не пришлось, — усмехнулся Матвей-старший.
— А ты молодец, с кепкой хорошо сообразил, — кивнул Левушкин.
По шоссе запылила вдали машина.
Мотя бросился её останавливать. Шофер торопился домой, в село, но на него сильно подействовало Мотино удостоверение и особенно наган.
Оставив за старшего Матвея, Левушкин ринулся в Серовск. На полдороге он встретил на «форде» Семенцова.
Взяв его и Бедова, того самого дежурного, с кем Мотя разговаривал вчера, Левушкин погнал в Казанку за Косачом.
— Надо успеть до вечера! — торопил шофера Левушкин. — Иначе уйдет!..
В село решили не въезжать. Семенцова и шофера Мотя оставил в машине, они были в гимнастерках. Бедов же в день налета имел выходной, и Семенцов привлек его к работе прямо с огорода, где он копал картошку, поэтому вид имел вполне крестьянский.