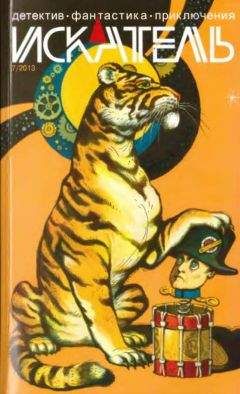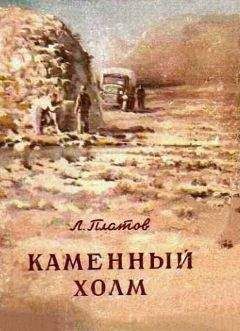Вспышка бритвой полоснула по глазам. Раскаленная, как Солнце, как целый миллион солнц, взрывная волна ударила, сбила с ног, закружила в вихре, и он кубарем полетел вниз со ступенек.
«Повезло, — сказал ему врач в госпитале. — Я бы на твоем месте до конца жизни в церковь ходил и свечки перед иконой ставил. Ни одного осколка. Легкое сотрясение, ушибы и царапины можно не считать. Через пару недель будешь бегать как новенький».
«Повезло, — сказал майор Свидригайлов. Он лежал на кровати, в бинтах и дурацкой полосатой пижаме размера на два меньше необходимого. — Скоро выйдешь отсюда — на свободу, как говорится, с чистой совестью. Ау меня завтра операция: осколок будут из бедра вынимать. Хирург сказал, ходить буду, а вот в футбол играть — вряд ли. Ну, это мы еще поглядим, кто кого… У тебя курева нет? А то мое сестрички отобрали…»
«Повезло», — сказал Эдик Авербах, которого отправили на родину, запаянного в цинк. Он приходил к Егору в палату почти каждую ночь, едва госпиталь засыпал. Приходил и тихо присаживался на уголок кровати — задумчивый, молчаливый, со слегка рассеянной улыбкой в уголках губ. С этой грустной улыбкой он когда-то играл Арлекина в своем ТЮЗе, и ребятишки бегали на его спектакли раз по десять, специально чтобы поглядеть на «дядю Эдика» — оказывается, он был талантливым артистом, Эдик Авербах, Артистом с большой буквы, без всяких натяжек…
С тех пор прошло два с половиной года — точнее, два года и семь месяцев. Подземный переход, посреди которого Егор стоял сейчас, был, как и Вселенная, равнодушен ко времени. Даже две бабульки напротив киоска с сигаретами были те же: одна пониже и пошире в талии, другая повыше и с бородавкой на кончике носа. Все было в точности так же, как три года назад (три года, семь месяцев и четыре дня, машинально поправил себя Егор). Все — кроме скрипки.
Скрипки не было.
На всякий случай Егор прошел весь тоннель из конца в конец, словно еще надеясь на что-то… Однако единственным источником звуков, которые с натяжкой можно было принять за музыкальные, был вусмерть пьяный аккордеон с фантастическим репертуаром: «Шумел камыш», «Раз пошли надело — я и Рабинович» и забытая нынешним поколением «Взвейтесь кострами…».
Егор постоял, в раздумье, и медленно, как во сне, пошел к выходу.
— Ищешь кого-то, сынок? — услышал он сзади и обернулся. Бабулька-торговка, та, что пониже росточком, выжидающе заглядывала ему в лицо.
— Марию, — повторил Егор. — Девушку, которая здесь играла.
— Так ее увезли еще прошлым летом, — с улыбкой доложила бабулька. — А с тех пор она тут и не показывалась… Да заткни ты свою шарманку! — вдруг рявкнула она на аккордеониста, в очередной раз занудившего «Близится эра светлых годов…». — Поговорить с человеком не даст, ирод.
— Увезли? — нахмурился Егор. — Кто?
— Да какой-то хлыщ на ино… ине… Кузьминична, как называется эта дрянь?
— Иномарка, — подсказала вторая старушка, повыше и с бородавкой на кончике носа.
— Вот-вот.
— На какой иномарке? — спросил Егор.
— Да откуда ж я знаю? Пришли, подарили цветы и увезли… Один-то, я помню, сказал, что он… как эта дрянь называется, Кузьминична?
— Продюсер. Который концерты разным знаменитостям устраивает.
— Да ты что? — восхитилась ее подруга. — Значит, наша Машенька — знаменитость?!
— А ты думала. Как она на скрипке-то играла — я такое только по радио слышала…
— Спасибо, — с трудом выговорил Егор и зашагал прочь.
Ему понадобилось изрядное количество времени, чтобы припомнить номер автобуса, имевшего конечной точкой маршрута Ручейковый проезд. И вспомнить нужное имя: Ляля Верховцева, Машенькина соседка по комнате в общежитии — если, конечно, не поменяла жилплощадь за истекший период. Едва ли не последняя надежда хоть что-нибудь разузнать…
Он добрался уже в одиннадцатом часу вечера — и теперь стоял, забившись под узкий козырек подъезда. Ожидание обещало быть долгим: кто ее знает, эту Лялю (Альбину, Алину, Лилию), она девочка взрослая и вовсе не обязана! коротать ночь в собственной постели. Однако Егор увидел ее, не успев даже выкурить сигарету. И тут же узнал, хотя никогда не встречал раньше.
Навскидку ей было около двадцати пяти. У нее было очень гладкое, почти кукольное личико: ни единой складки в носогубной области, ни единой морщины на девственно чистом лбу — должно быть, она уйму денег тратила на всякие там кремы, бальзамы, лосьоны… Он шагнул навстречу и спросил:
— Извините, вы Ляля?
Она смерила его надменным взором.
— Кому Ляля, а кому Алевтина Даниловна. Ступай, я убогим не подаю.
— Ну и зря, — примиряюще сказал он. — Благотворительность нынче в моде… Вообще-то я знакомый Марии.
— И что?
— Вы не знаете, как ее найти?
Она снова оглядела Егора с ног до головы, тут же приметив изрядно поношенные брюки, порез на щеке от скверной бритвы и штопку на воротнике рубашки. И сочувственно проговорила:
— Да… Плохи твои дела, парень.
— Что-то не так? — осведомился Егор, почувствовав неожиданную злость. — Носки не в тон?
— Тебе имя Юлий Милушевич ни о чем не говорит?
— Нет. Это наш новый губернатор?
Девушка лениво протянула руку — пальцы у нее были такие же, как и у Марии: длинные, тонкие, чувственные, — и коснулась его волос возле виска.
— Откуда же ты такой взялся? Не с Луны, часом?
Егор промолчал. Ляля вздохнула и сжалилась:
— Юлий Милушевич — это очень известный антиквар и покровитель искусств. Кроме того, у него с десяток магазинов со всякими там компьютерами-факсами-шмаксами (я в этом, правда, ни в зуб ногой).
— Откуда знаешь?
— Телевизор надо смотреть, — она усмехнулась. — Во-обще-то некоторая дремучесть тебе к лицу. Придает индивидуальности. Не хочешь зайти? У меня где-то «Миральва» была припасена…
Свет от лампочки под копеечным зеленым абажуром, как ни странно, делал девушку моложе, снизив возрастной ценз с двадцати пяти лет до двадцати — это Егор обнаружил, мысленно убрав с ее личика пару слоев косметики. Ляля небрежно кинула на диван сумочку, попутно сгребла со стола несколько пустых пакетиков из-под чипсов и скрылась за створкой шкафа («Я переоденусь, о’кей? Только, чур, не подглядывать и рук без команды не распускать»). Вышла уже в шелковом халатике — очень коротком, расшитом разноцветными павлинами по бледно-зеленому полю. Грациозно нагнулась, вынула из холодильника запотевшую бутылку, плеснула в бокал и протянула Егору.
— Будешь?
Он задумчиво взял, повертел в пальцах, чувствуя острое желание надрызгаться до зеленых чертиков.