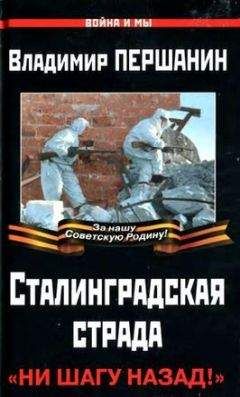Худенькое тело женщины сотрясалось от рыданий Муся, которая была значительно моложе, чувствовала себя рядом с ней пожилой, умудренной. Она тихо гладила Зою по голове:
— Зачем же плакать? Каждый воюет как может, и хлебы печь и белье стирать — дело. Лишь бы сложа руки не сидеть, не ждать. Я бы тоже с радостью осталась в отряде…
Муся закусила губу. Собеседница сразу от нее отодвинулась. Она будто вся похолодела и смотрела теперь на девушку настороженно.
— …если бы мне не поручили другого задания, — поспешила поправиться Муся.
И вдруг загремел цепью, залаял пес. Сквозь лай прорвался отдаленный гул мотора. Зоя разом вскочила и, опустив босые ноги, напряженно вытянула шею. Мотор то стихал, то слышался вновь. С каждой минутой он звучал все слышнее и слышнее.
— Они, одевайтесь! — прошептала Зоя.
Лесник задул лампу, но синий свет фар уже бил в ставни. По избе тревожно метались огромные черные тени. Вся одежда Муси еще выпаривалась в бане. Соскочив с кровати, девушка заметалась, ища впотьмах полушубок или хотя бы кофту. Николай расталкивал Толю, но, разомлев от непривычного домашнего уюта, маленький партизан, обычно такой чуткий в лесу, никак не хотел просыпаться и только отмахивался и мычал. Наконец он открыл глаза и, соскочив с лежанки, сразу же схватился за оружие.
На промерзшем крыльце уже скрипели и гремели шаги. Пес захлебывался лаем. Стук в дверь раздавался в притихшей избе оглушительно, как канонада.
— На чердак! — шепнул старик, распахивая дверь в сени.
Муся и Толя бросились туда и стали взбираться по приставленной лестнице. Николай колебался, видимо не очень доверяя леснику.
— Не сомневайся, не сомневайся! — с отчаянием шептал лесник, подталкивая его к лестнице. — Я же связной, партизанский связной, мне себя выдавать нельзя. Мне с немцами компанию водить велено.
В дверь бухали все нетерпеливее. Чем-то тяжелым колотили в ставень. Лай собаки поднялся до самой высокой ноты, но глухо хлопнуло несколько выстрелов, и он сразу осекся.
— Ой, горе, Дружка застрелили!.. Да сейчас, сейчас, носит вас по ночам! — громко ворчал лесник, силой толкая Николая к лестнице.
— Смотри, в случае чего — вместе на небо полетим, — шепнул партизан.
Упругими прыжками гимнаста он поднялся наверх и сейчас же втянул за собой лестницу.
Луна просовывала в слуховое окошко холодный толстый луч. Николай, Муся и Толя, тесно прижавшиеся друг к другу, видели в его свете пыльный кирпичный боров, березовые веники, парочками висевшие на шесте. Взволнованное их дыхание морозным облаком срывалось с губ и, переливаясь, уплывало в полутьму.
Партизаны захватили все свое оружие, но одеться никто из них не успел. Николай был одет теплее других: в ватных шароварах, в гимнастерке. На Мусе была всего лишь длинная ночная сорочка. В первые минуты, слишком взволнованные, все трое не замечали холода. Сжимая оружие, они прислушивались к голосам, просачивающимся сквозь щели потолка, и старались угадать, что это: случайный приезд незваных гостей или засада, устроенная им лесником?
Доносившийся до них снизу разговор понемногу убедил их, что приезд немцев случаен, что хозяин вовсе не собирается выдавать. Напряжение схлынуло. Вот тогда-то льдистая стынь крепкого ночного заморозка и впилась в их разгоряченные баней и непривычным избяным теплом тела. Неодолимая зябкая дрожь овладела их мускулами, зубы помимо воли стали выбивать противную дробь. Грея один другого, партизаны все время прислушивались к тому, что происходит внизу.
Судя по голосам и звукам шагов, в избе находилось пять-семь немцев. Часть из них осталась в кухне, за переборкой, а двое, в том числе и человек, говоривший на ломаном русском языке, прошли в горницу, расположенную как раз под тем местом, где, скорчившись, сидели партизаны. Объяснявшийся по-русски, по-видимому переводчик, говорил с лесником. Партизаны поняли, что машина с солдатами возвращалась из какой-то «особой экспедиции» и озябшие немцы просто зашли погреться. Тот, что разместился в горнице, по-видимому был начальником. Он говорил в нос, растягивая слова. Переводчик обращался к нему: «мейн офицер». Офицер попросил лесника, как выразился переводчик, «сделать воду теплой». Солдаты, расположась в кухне, стучали консервными банками, резали хлеб да подшучивали над дочерью лесника, которая, судя по стуку ковша, наливала самовар.
Потом от печного борова потянуло вкусным дымком. Кирпич начал чуть нагреваться. Нащупав место, которое теплело быстрее остальных, Николай устроил на нем Мусю и Толю.
Натянув рубашку до пят, девушка сжалась в комок и дышала себе в согнутые колени. В темноте чердака, пронзенной ледяным лучом, она напоминала маленький сугроб. Девушка тряслась, ее бил тяжелый озноб. Толя улегся на потеплевших кирпичах. Николай уселся в углу, там, где боров переходил в трубу.
— Мальчишкой я, елки-палки, мечтал ехать в Арктику. Вот был дурак-то! — стуча зубами, шепнул ему Толя.
— А теперь состарился и решил не ездить. Правильно, ну ее к черту, пусть там белые медведи мерзнут, — усмехнулся Николай, обнимая мальчика.
— Тише вы… Ох, кабы Зоя догадалась печь пожарче растопить! У меня душа в ледышку превращается, — отозвалась Муся. Сорочка не грела. Девушке было хуже всех.
Они шептали все это почти бесшумно. Густые курчавые парки по очереди срывались с их губ, клубясь в холодном синеватом луче.
Перед домом, стуча сапогами по подмерзшей земле, ходил часовой. Лунный свет медленно двигался по чердаку, он осветил содержимое большой плетеной корзины, до половины наполненной стеклянными шариками мороженой клюквы. Толя, оторвавшись от теплых кирпичей, стремительно, как синица, порхнул к корзине, вернулся с целой пригоршней ягод и роздал их товарищам. Партизаны стали жевать клюкву, такую кислую и холодную, что от одного ее вида немел язык. Теперь, когда нагревающиеся кирпичи уже ощутительно дышали благодатным теплом и удалось победить в себе противную ознобную дрожь, всё их внимание сосредоточилось на звуках, доносившихся снизу.
В горнице, судя по стуку ножей, вилок, хлопанью пробок и звону чашек, офицер пил и закусывал в обществе своего переводчика. В кухне, с шутками, со смехом, насыщались солдаты.
— Ой, заморозят нас, гады! — шептал Толя, обнимая руками печную трубу.
Разговор в горнице становился все более шумным. Опасаясь за Зою, Муся со страхом прислушивалась к спору, но все время надрывно плакал ребенок, и слова терялись в его заливистом плаче. Только по тону можно было догадаться, что хриплый голос переводчика уговаривал Зою пить, а она отказывалась. Но вот наконец ребенок стих.