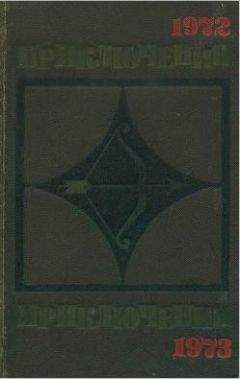Строгий судья Узоров. Не о каждом он думает с затаенной нежностью.
Есть в Антоне частица самого сержанта. Долгие месяцы ходили они вместе в дозоры и секреты. Узоров отдавал товарищу все, что знал и накопил за пять лет службы. Однажды Бегичев спросил, почему он не демобилизуется, не уходит с заставы.
И строгий судья Узоров спросил самого себя: «Почему?» Тогда он сказал Антону о чувстве долга. И сейчас мог бы повторить то же самое.
На границе служат люди с особо обостренным чувством долга. От неширокой контрольно-следовой полосы начинается огромная, великая страна, первое в мире государство свободных, счастливых людей. И нет большей чести, чем та, что выпала ему, сержанту Узорову, — охранять мирный труд миллионов дорогих его сердцу людей.
— Пить… — услышал сержант. Неизвестный смотрел на пограничника ненавидящими глазами.
— Пить, — потребовал еще раз задержанный и шевельнул головой.
— Придется потерпеть, — жестко сказал Узоров.
Снятые с пояса фляжки рядком лежали на песке у костра.
— Вы не имеете права, — процедил задержанный, — это не гуманно — не дать напиться раненому…
— Не торопитесь умереть, — все так же жестко отрезал сержант, — вы нам нужны живым…
Он сказал это в надежде получить подтверждение своей уверенности в том, что вода отравлена.
Неизвестный долго молчал, прикрыв веками красные от напряжения белки глаз. Казалось, снова потерял сознание. Внезапно он открыл глаза, внимательно и даже с любопытством посмотрел на сержанта. Тихо, с горечью произнес:
— На той стороне о таких, как вы, думают иначе. Теперь я знаю — они ошибаются…
Их обнаружили с воздуха на исходе дня. Бегичев и нарушитель границы лежали без сознания.
Узоров сидел у костра, по-восточному скрестив ноги, не в силах пошевельнуться. Перед ним лежали три фляжки с водой и под каждой — листок бумаги с единственным словом — «отравлено». Чуть в стороне лежала плоская металлическая коробка.
СОПЕЛЬНЯК Борис
Последний бросок
Опять эта ноющая боль под лопаткой. Потом она поднимется выше, станет нестерпимо острой. И не вздохнуть. Так было и в прошлый раз. Последнее, что запомнилось, — не вздохнуть… Надо спешить. Осторожно опустил ноги. Нащупал шлепанцы. Накинул пиджак. Нацепил фуражку.
«Ничего, ничего, — думал он. — Телефон в парадном. Спущусь, вызову «неотложку» — и наверх. Нет, не выйдет наверх: третий час ночи, лифт не работает. Ну и что, невелик барин, подожду машину внизу. А Тролль посторожит».
Кликнул собаку и вышел на лестницу. Не так уж высоко — пятый этаж, но ведь это сто ступенек! Осторожно, очень осторожно он начал спускаться. А рядом так же медленно шагала шотландская овчарка. И кто знает, кому было труднее. Ведь Тролль давным-давно ослеп. В молодости, правда, кое-что видел — человека или дерево мог различить, но попасть в дверь или прыгнуть через забор не удавалось. И все-таки Андрей Григорьевич с собакой не расстался. Пятнадцать лет работали в уголовном розыске майор Русаков и сыскная собака Тролль. Теперь на пенсии. Оба. И никого рядом.
На третьем этаже старик остановился.
«Проклятые шлепанцы, — чертыхнулся он. — Соскальзывают на каждом шагу». Попробовал вздохнуть поглубже, охнул и, царапая стену, сполз на ступеньки. Тролль подставил спину, и хозяин вцепился в его длинную шерсть. Перевел дух и прислонился к теплому боку собаки.
— Вот, брат, дела, — виновато сказал он. — Я сейчас… Я только…
Тролль сипел, дрожал от напряжения, но стоял. Он даже чуточку потянулся и лизнул хозяина в ухо. Тот понимающе улыбнулся:
— Ободряешь? Знаю, знаю, на тебя еще можно положиться. — И погладил его горбоносую морду. Пальцы наткнулись на рубец.
— Что это? — удивился он. — Откуда? — Потом вспомнил и даже повеселел: — Ведь это моя работа! Ты помнишь, Тролль, как мы познакомились? Помнишь? Тогда мы были молодые, сильные и чертовски упрямые.
Андрей Григорьевич прикрыл веки и увидел себя на берегу шумной мелкой речонки. Он приехал на переподготовку в Нальчикскую школу милиции. А до этого всю войну рыскал со своим Джульбарсом по следам фашистских диверсантов… В сорок седьмом недалеко от Ужгорода бандеровцы прошили Джульбарса из автомата. Надо было искать новую собаку и обучать ее всем премудростям трудного и опасного ремесла.
Почти месяц жил Русаков в школе, но собаку так и не подобрал. И не в привередливости дело. Просто он искал овчарку по своему характеру. Собаки ведь тоже разные бывают — и холерики, и сангвиники, и флегматики. Чаще всего это не только от природы, но и от хозяина. Если он тюха, гуляет и на ходу спит, значит, и собака несобранная, обвислая, не ходит, а волочит себя по земле. Если же хозяин быстрый, энергичный, то и собака навостренная, собранная; слово — и она летит выполнять приказание.
Тролль был единственной шотландской овчаркой в школе. Как он сюда попал, никто не имел представления; да и начальство это не интересовало — ведь все курсанты предпочитали восточно-европейских, или, как их называют, немецких овчарок.
В дрессировке, а тем более передрессировке собак редко обходится без поединка. Если она хоть раз безнаказанно укусила проводника, то все время будет его рвать. Но если человек победит, пес запомнит это навсегда и смирится.
Русаков решил победить свирепого Тролля. Надел пару ватников, обмотал шарфом шею и пошел с ним на занятия. Поначалу все шло нормально: бегает по берегу, приносит брошенные предметы, ползает, прыгает. Потом отказался сесть. Русаков скомандовал раз, другой! Тролль взъерошил загривок, заворчал. И тут Русаков прозевал момент: по всем признакам перед броском Тролль должен был дернуть правым ухом — такая уж у него была привычка, а тут резко хлестнул себя хвостом и прыгнул на грудь. Устоять Русаков не смог. Но, падая, ударил ногой в живот. Врезал, как говорится, от души, но Тролль даже не взвизгнул.
В правой руке у Русакова был хлыст — хоть слабое, но все же оружие. Обезоружить противника — первая заповедь хорошей собаки. Тролль был хорошей собакой, поэтому сразу вцепился в запястье правой руки. Русаков успел отметить, что пес работает очень грамотно: мало того что хватает вооруженную руку, он хватает именно запястье. Ведь если в руке пистолет, а зубы будут на локте или предплечье, человеку ничего не стоит вывернуть кисть и выстрелить прямо в лоб. Два ватника не помогли: рывок — и кисть онемела.