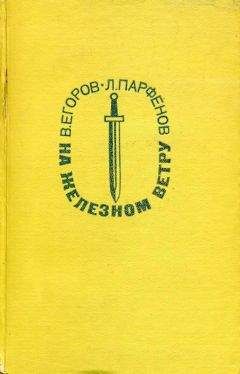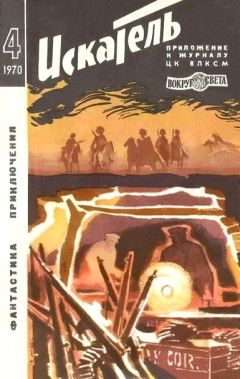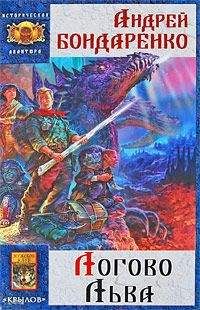Такие беседы происходили каждый раз, когда Василий ночевал дома. Он рассказывал о гражданской войне, о Ленине, о разгоревшейся в мире классовой борьбе, о руководителях и героях Бакинской коммуны Шаумяне, Джапаридзе, Петрове, Азизбекове, расстрелянных в Закаспийских песках. Этих людей он хорошо знал. Говорил горячо, вдохновенно, словно читал стихи. Но когда речь заходила о нем самом, о его работе, отделывался односложными словами. В ответ на просьбы Михаила рассказать, как он вылавливал контрреволюционеров, отмахивался:
— Да ну тебя!.. Начитался Пинкертонов.
Скрытность брата обижала Михаила и в то же время поднимала в его глазах профессию чекиста на некий недосягаемый пьедестал, делало ее особенно притягательной.
Однажды, перед тем как лечь спать, Василий принялся зашивать фуражку — на ней оказались две дырки. У Михаила загорелись глаза.
— Пулей? Кто это?
— Он самый — классовый враг, — сказал Василий, но тут же воровато оглянулся на дверь, придушенным голосом пригрозил: — Смотри, матери не вздумай брякнуть...
Жизнь брата, накаленная смертельным палом борьбы за великие идеалы, виделась Михаилу прекрасной, и для себя он желал такой же судьбы.
Он чувствовал себя так, будто с него сползла тесная оболочка. Он видел мир другими глазами. Сместилась граница между добром и злом. Она проходила вовсе не там, где видели ее авторы старых книг. Благородный богатый джентльмен выводит на чистую воду злого обитателя трущоб, собиравшегося похитить у бездомного мальчика миллионное наследство — еще недавно такая коллизия умиляла Михаила и его друзей, не вызывала сомнений. Теперь все выглядело по-иному. Авторы старых книг лгали, потому что не добирались до корня явлений. Прежде чем налепить на обитателя трущоб клеймо злодея, следовало задаться вопросом: почему существуют трущобы и кто загнал туда человека?
Ответ получался потрясающий. Оказывается, не кто иной как благородный джентльмен создал трущобы, не кто иной как он загнал туда человека и превратил его в злодея. Граница между добром и злом совпадала с границей, делящей человечество на классы. На имущих и неимущих. На буржуев и пролетариев. Первые стояли за старый, несправедливый строй жизни, от них исходило все зло. Вторые хотели справедливости и потому были средоточием добра.
Эти новые, такие ясные мысли захватили молодой ум, потому что давали ответы на все вопросы и не оставляли места для туманных предположений и колебаний. Впрочем, была одна неясность: куда отнести Зину? Она происходила из враждебного лагеря, где одно зло, а Михаил видел в ней только добро. Стыдно признаться, больше добра и душевной красоты видел в ней Михаил, чем в иных представительницах собственного пролетарского класса. Все собирался спросить совета у брата, как быть с Зиной, но Василий вскоре уехал в Тифлис. Тогда Михаил изобрел в уме некую тихую гавань «для особых случаев», куда и поместил Зину.
Запали в сердце слова, сказанные братом в ночь перед отъездом:
— Вот ты, Миша, все пытаешь: как быть да что делать? Бывают, знаешь, такие шкуры на земле, что плюнул бы, да слюны жалко. Ты его поднимаешь в атаку за лучшую жизнь, а он: «Чай, у меня не две жизни. Пойдешь за лучшей, глядишь, и плохую-то потеряешь». Можно, конечно, и так прожить. Но я знаю других людей, великих людей — большевиков. Они, брат, жизнь измеряют не годами, а пользой ее для революции. Боятся они не смерти, а бестолковой смерти. Без них, как без Коперника, и земля не вертелась бы. А ты говоришь: как быть, что делать? Равняться по ним — вот что. Землю поворачивать своими руками — вот что.
После отъезда брата Михаил вместе с Ибрагимом, Алибеком и Ленькой вступили в комсомол.
Меньше года минуло с того дня. И вот Михаил стал чекистом. В пятнадцать лет очутился он на передовой линии огня, и жизнь его обрела цель и смысл. Это была большая удача. Ею он обязан брату и комсомолу. «И никогда, — сказал он себе, — никогда ни тебе, братишка, ни тебе, Кафаров, ни тебе, Логинов, не придется краснеть за меня. Нет, не придется».
Едва открыв глаза, Михаил вспомнил, что он больше не ученик высшего начального училища, а чекист. Из горницы сквозь приоткрытую дверь проникал свет. Сорвался с постели, выглянул из «темной» — ходики на столе показывали семь. Не проспал!
Оделся, заглянул в зеркало и остался недоволен. Кургузый пиджачишко, коротковатые брюки, тапочки — вид далеко не чекистский. Можно было понять Алибека и других ребят. Вчера они зашли за ним. В Доме красной молодежи проводилось первое занятие комсомольского отряда ЧОНа — изучение материальной части винтовки. Михаил проводил друзей до угла Цициановской.
— Дальше шагайте одни, ребята. Я ведь не в ЧОНе.
— Как не в ЧОНе? — округлил глаза Алибек. — Такой джигит...
— Меня приняли на работу в Чека.
Алибек окинул его с ног до головы, перевел взгляд на друзей, и покрутил у виска пальцем. Ибрагим и Ленька захохотали так, что пробегавшая мимо собака шарахнулась на мостовую.
— Что вы ржете, несчастные авары! — прикрикнул на них Алибек. — Человека завтра назначат командовать всеми вооруженными силами республики! Так отдайте ему честь!
— Обормоты, — беззлобно сказал Михаил и повернулся, чтобы уйти.
— Слушай, неужели не врешь?! — удержал за рукав Ибрагим.
— Не вру.
— Ну, здо-орово! Оружие выдали?
— Пока нет.
Это убедило друзей окончательно. Если бы человек врал, он бы непременно приплел пару пистолетов, что сейчас как назло лежат в столе, ключ от которого потерян.
Михаил попросил Ибрагима, как самого серьезного, зайти к директору училища и сказать, чтобы фамилию Донцова вычеркнули из списка учащихся.
— Только дома не проболтайтесь. У меня отец и мать ничего не знают. И вообще, не распространяйтесь об этом.
— Кому говоришь? — обиделся Алибек. — Не понимаем разве? Считай — могила.
...Да, вид у него совсем не чекистский. Но, может, оно и лучше. Для маскировки. Мало ли какое дадут ему сегодня задание!
Из дому вышел опять с учебниками под мышкой, будто в училище. Оставил их в темном углу под лестницей.
Ровно в девять Михаил стоял перед дверью, над которой в бронзовом овале тускло поблескивала цифра 45. Раньше в здании, как видно, располагалась гостиница.
С утра в коридорах и на лестнице было людно. Туда-сюда с деловым видом спешили сотрудники. Большинство в черных кожаных тужурках. Почти у каждого с правого бока тужурка оттопыривалась, из-под нее выглядывала кобура.
Люди входили и в комнату № 45. Оттуда доносился говор, стрекот пишущей машинки; иногда в басовитые мужские голоса вплетался женский дискант.
Михаил собрался с духом и вошел. В большой светлой комнате с высокими лепными потолками стояло пять или шесть канцелярских столов, громоздкий темный шкаф. Прямо напротив, около окна стучала на «ремингтоне» молоденькая машинистка. Круглолицый парень лет двадцати с русым чубом в накинутой на плечи студенческой тужурке, присев на край стола, ей диктовал. Другая машинистка, закладывая в машинку бумагу, что-то говорила смуглому юноше в цивильном костюме, по виду азербайджанцу. Он молчал и хмурился.