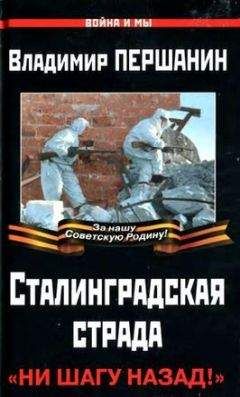Митрофан Ильич с неудовольствием посмотрел на спутницу:
— Ну как ты не понимаешь простой вещи! Одним, именно одним идти, абсолютно одним. И никуда не заходить, да! Конечно, труднее, но что сделаешь? Ведь с нами такие ценности! Я как вспомню, что этот фашист стоял рядом с мешком, чуть сапогом его не касался, — у меня волосы на затылке шевелятся…
Муся даже на ноги вскочила от досады:
— Хорошенькое дело! Мы должны поскорее своих догнать, вот это я знаю… Чтобы из-за какого-то золота я стала терять столько времени? Очень нужно!
Старик тоже вскочил:
— Именно, именно очень нужно! Наш долг — донести, сохранить все до последней золотинки. Мы не имеем права… слышишь, не смеем допускать ни одного процента риска!
И тут, на первом привале, между ними возник спор, сразу же обнаруживший глубокое расхождение во взглядах на сокровища.
Митрофан Ильич готов был, если потребуется, сложить голову, но пронести в целости и сохранности это очутившееся у них в руках государственное добро. Муся же искренне недоумевала: для чего, спасая драгоценности, они должны заведомо удлинять и затруднять свой путь, чураться людей, идти какими-то звериными тропами, рисковать жизнью?
— Из-за золота блуждать по лесам! Вот чепуха, вот чушь! — возмущалась девушка.
Конечно, и она не оставила бы врагу драгоценную ношу. Но теперь, когда сокровища благополучно унесены из оккупированного фашистами города, их можно отлично закопать здесь, в лесу, в глухом месте, и, освободившись, налегке пробираться к своим. Прогонят оккупантов, кончится война, тогда можно будет откопать все это и сдать куда следует. Просто и никакой возни. Через два-три дня они догонят Советскую Армию, перейдут фронт. Все это казалось девушке ясным и непреложным, и она совершенно искренне не понимала, почему ее проект, такой деловой и, как ей кажется, разумный, вызывает у спутника гнев и даже ужас.
Так они и не доспорили. Но Корецкий, испугавшись опасного легкомыслия девушки, потребовал, чтобы она немедленно вернула ту часть ценностей, какую несла. Муся, презрительно дернув плечом, сказала: «Пожалуйста», — и с преувеличенным старанием принялась собирать ромашки и дикую гвоздику. Сердито косясь на нее, Митрофан Ильич расстелил на траве одеяло и принялся пересыпать все в прежнюю, пропитанную мазутом торбу.
Глухо позвякивая, остро искрясь драгоценными камнями и сверкая полированными гранями, хлынули сокровища. У старого кассира занялся дух. Как бы стал богат, какое бы могущество, какой почет для себя и своих наследников обрел бы человек капиталистического мира среди себе подобных, получи он хоть часть того, что сыплется сейчас на дно грязного брезентового мешка!
Фашисты! Да они ничего не пожалеют для того, чтобы овладеть драгоценностями. Стоит им прочесть недоконченную опись, оставленную в валике похищенной машинки, и они, наверное, пошлют погоню по всем дорогам, перебьют и замучают много людей, лишь бы найти сокровища. Нет, дудки-с! Ничего вам, господа, из этого не получить. Все будет доставлено законному хозяину. Это золото еще против вас повоюет. И как еще повоюет! А эта вздорная девчонка возится с цветами, плетет какой-то дурацкий венок — и горя ей мало. Закопать в землю и идти налегке! Каково! И это сейчас, когда в тылу даже консервные банки собирают… «Нету, нету у этих молодых уважения к ценностям. Слишком беззаботно жили, легко им все давалось! Скажите на милость: «закопать и уйти»! Поразительное, возмутительное легкомыслие!»
Сердясь и негодуя, Митрофан Ильич завязал и с трудом взвалил на спину изрядно потяжелевший рюкзак. Но Муся насильно сорвала у него с плеч лямки. «Честь» нести золото она, конечно, ему уступает. Пусть тащит его он сам, если оно ему так дорого и любо. Но остальной груз — по-товарищески пополам.
Ловко орудуя в мешках, девушка быстро переложила к себе всю хозяйственную поклажу: котелок, мешок круп, хлеб, соль, белье и рыболовные снасти. Роясь в вещах спутника, она наткнулась на туго свернутый фланелевый костюм, тот самый, от которого она вчера отказалась. Снова теплая волна поднялась в ее душе. Муся покосилась на Корецкого, безучастно сидевшего в стороне, и, ничего ему не сказав, оставила костюм на дне его мешка. «Нет, он положительно хороший старикан! Только вот помешался на этом золоте и еще шляпу носит уж очень смешно — так, что похож в ней на старый гриб подберезовик».
Девушка прикинула груз. Теперь рюкзаки весили почти одинаково. Но у Митрофана Ильича мешок был маленький, плотный, удобный, а Мусин разбух и топорщился, как верблюжий горб. Девушка быстро его развязала, вынула платья, что были похуже, и забросила их в кусты. Подумала, вспомнила о теплом и удобном для пути фланелевом костюме и закинула туда же пальто.
— Вот и своего добра не жалеешь. Легко вы жили, все на лету хватать привыкли, — проворчал Митрофан Ильич.
— А чего жалеть? В войну все равно наряжаться некогда, а победим — заработаю, лучше, красивее куплю. А то ведь и фасоны устареют, — бездумно ответила девушка, взваливая на плечи полегчавший рюкзак.
— Как это у тебя легко — «победим»! Сколько для этого воевать придется, сколько народу погибнет… Ты об этом подумала?
Муся пожала плечами.
Когда тропинка, уводившая их на восток, стала поворачивать, девушка оглянулась. На темной зелени черемухового куста синело драповое пальто. На какое-то мгновение Мусе стало жалко расставаться с ним. Оно было почти новое, хорошо сшито и так к ней шло. Но как его тяжело таскать! Муся вздохнула, подумала: «Есть о чем печалиться! Города горят, заводы гибнут, люди жизнь отдают за родину… Что значит какое-то пальто! Зато как легко идти-то!» И, упрямо тряхнув головой, она направилась за спутником.
До полудня шли они молча травянистой тропой, пробитой по берегу рыбаками и сборщиками ивового корья. Лесное озеро, лежавшее в зеленой чаще некрутых берегов, тихо шелестело сухими сабельками прибрежных камышей, легонько покачивало красноватые листья водяных лилий и золотые купавы, с зеркальной точностью отражало в голубоватой воде и сизые зубцы далекого леса, и седоватые кудри прибрежных лозин, и пышные позолоченные облака, торопливо спешившие в небесной голубизне.
В грубоватых крепких башмаках идти было гораздо легче, и все же девушка едва поспевала за стариком. Он шел впереди крупным, неторопливым шагом, длинный, тощий. Движения его были размеренны, даже медлительны, но Муся, хотя все время и нажимала, иногда даже переходя на рысцу, все же едва поспевала за ним.
Митрофан Ильич теперь то и дело оглядывался, спрашивал у девушки, не утомилась ли она, не надо ли присесть. Муся сердилась — садиться не к чему, ничуть она не устала! — сердилась, а сама все старалась разгадать: почему он так легко ходит, почему нисколечко не устает?