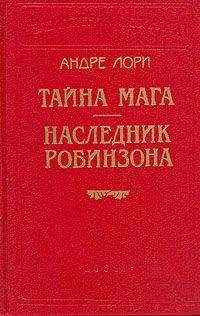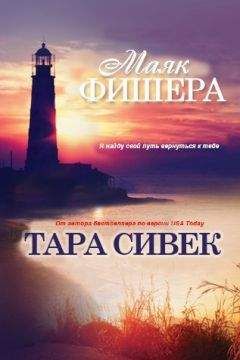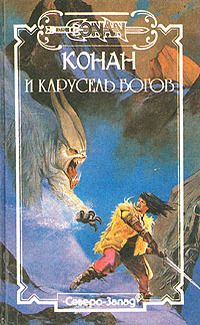Он выждал, когда караул, сменив часовых, совершенно удалился, в расчете, что теперь ему ничто не помешает, но увы, оказалось, что новый часовой, сменивший прежнего, вместо того чтобы прохаживаться мерным шагом вдоль здания, избрал для своих прогулок боковую аллею и, очевидно, из пристрастия к лунному свету делал не более пяти-шести шагов в тени, а остальные сорок шагов на свету, вследствие чего он скрывался из вида всего на какие-нибудь десять секунд, а оставался на виду в течение целых трех или четырех минут, и судя по всему, не только был виден другим, но и сам мог все видеть.
По-видимому, обстоятельство это сильно огорчило человека с мешком. Лежал плашмя на животе, он размышлял, что ему делать, и пришел к заключению, что при таких условиях для него будет одинаково трудно как вернуться обратно в парк, так и продолжать свое путешествие по галерее. Необходимо было дождаться, пока не сменится этот часовой или не перестанет расхаживать в избранном им направлении, или же пока луна не скроется за стеной соседнего здания. На все это могло потребоваться не менее двух-трех часов выжидания, но можно ли ему было безнаказанно оставаться столько времени здесь, на этой веранде, и, быть может, даже дожидаться здесь рассвета? Тем не менее другого выбора не было, и человек с мешком волей-неволей должен был примириться с этим.
Прошло около часа с того момента, как подкрадывавшийся человек неподвижно оставался на месте, притаившись в своей неудобной позе, когда часовой, которому наконец наскучило ходить взад и вперед по аллее, остановился в тени и не стал более показываться на свету. Не теряя ни минуты, человек на веранде пополз дальше на коленях, осторожно прижимаясь к перилам и продвигаясь вдоль галереи. Из широко раскрытых больших окон, доходивших до пола и задернутых легкими газовыми занавесками, доносился слабый звук равномерного дыхания спящих. Весь дом спал крепким сном. Перед одним из таких больших окон человек с мешком остановился и заглянул в него. В глубине комнаты, освещенной слабым светом ночника, под голубым шелковым абажуром, виднелось смутное очертание какой-то грациозной женской фигуры в длинной светлосерой шелковой ночной блузе, мягкими складками облегавшей спящую, окутанную прозрачной белой дымкой тонкого кисейного полога. Трудно себе представить что-нибудь более грациозное, более чарующее, чем этот милый образ мирно спящей девушки при мягком ласкающем свете голубого ночника.
Человек на веранде притаил дыхание и прислушался, желая убедиться, что часовой его не заметил, что движение его не возбудило никакого подозрения. Затем он осторожно просунул голову под край шторы и стал жадно вглядываться в полумрак комнаты. Глаза его сверкнули злобной радостью, злая усмешка скривила его рот; осторожно развязав мешок, который он волочил за собой, он просунул его под газовую занавеску в комнату спящей девушки и проворно выворотил мешок, причем из него вывалился и с глухим шумом ударился об пол, устланный циновками, какой-то черный клубок.
Свернув жгутом пустой мешок, ночной посетитель, не теряя ни секунды, пополз обратно, направляясь к тому месту веранды, откуда он мог добраться до той водосточной трубы, по которой он взобрался сюда. Тем временем луна успела уже спуститься ниже, и тень от соседних строений заметно удлинилась. Человек с мешком счел этот момент наиболее благоприятным для своего побега и, одним прыжком перемахнув через перила, очутился на водосточной трубе, в которую он вцепился, точно клещами, своими сильными мускулистыми руками и ногами и в одно мгновение спустился по ней.
В тот момент, когда он готовился одним прыжком перескочить освещенную луной аллею и скрыться в кустах, отчаянный крик ужаса, нечеловеческий крик раздался в ночной тишине. Пробужденный от своей дремоты часовой невольно содрогнулся при этом крике и едва успел добежать до угла флигеля, как в нескольких шагах перед ним какая-то черная тень промелькнула через аллею и скрылась в чаще кустов. Часовой едва успел крикнуть: «Кто идет»? и, не получив ответа, выстрелил наугад в кусты, куда только что успела скрыться промелькнувшая тень.
Все это произошло в каких-нибудь две-три секунды, а тем временем крики ужаса и отчаяния на первом этаже флигеля продолжались. Все в доме проснулись, засуетились, стали сбегаться люди, солдаты на посту в казарме схватились за оружие, повсюду замелькали огни. На веранде стали появляться люди, спешившие на крик, не перестававший, а все усиливающийся с минуты на минуту, к комнате мисс Флоренс, той самой комнате, которую освещал своим мирным ласковым светом голубой ночник.
Первым вбежал верный Кхаеджи, и ужасающее зрелище представилось его глазам; вслед за ним прибежали и мистрис О'Моллой, и горничные, и господин Глоаген, а за ними Шандо и Поль-Луи, а после всех и слуги туземцы.
На пестрых циновках Раки, любимая обезьянка Флоренс, извивалась в предсмертных корчах ужасной агонии, обвитая кольцами отвратительной черной змеи из породы кобр. Несчастное маленькое животное, сдавленное сильными кольцами змеи, искусанное его ядовитыми зубами, не имело даже силы кричать и сопротивляться! Теперь уже кричала обезумевшая от ужаса и горя Флоренс, призывавшая весь дом на помощь, не будучи в состоянии сама помочь своей несчастной любимице. Разумнее, конечно, было бы бежать как можно скорее от страшной опасности, грозившей ей, от которой ее спасла бедная маленькая обезьянка, став жертвой страшного гада.
Кобра-найа, которую называют также кобра-капелла, или очковая змея, без сомнения, самая ужаснейшая из всех видов змей, так как яд ее не поддается никаким противоядиям и настолько силен, что в двенадцать минут убивает самого сильного и здорового человека.
К счастью, Кхаеджи был здесь. Не сказав ни слова, не проявив ни единым звуком чувства ужаса или удивления, он схватил в свои мощные объятия обезумевшую девушку и унес ее из комнаты, как ребенка. Затем, вернувшись назад, он схватил попавшуюся ему под руку забытую на кресле шелковую шаль и накинул ее на извивающуюся черную массу, а затем кинулся к окну и, преграждая доступ в комнату сбежавшимся на крик людям, громко крикнул: «Не входите никто! Мисс Флорри спасена!» — потом, обращаясь к слугам, приказал: «Скорее сюда чашку с молоком и дудку или музыкантский рожок из казармы! живо! Нельзя терять ни минуты!».
Почти тотчас же явилось то и другое. Поставив чашку с молоком у окна, индус принялся наигрывать тихонько на дудке какую-то однообразную, монотонную мелодию, прерываемую по временам резкими пронзительными звуками. Вскоре край шелковой шали стал приподниматься, и плоская голова кобры высунулась из-под него, затем мало-помалу отвратительный гад, покинув свою уже безжизненную жертву, выполз весь из-под шали, невольно поддаваясь этому музыкальному призыву, как бы действительно зачарованный этими звуками. Движения змеи в это время были до такой степени ритмичны, что казалось, будто ее тянут какой-то невидимой нитью.